ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
 https://www.edu.severodvinsk.ru/
https://www.edu.severodvinsk.ru/

https://www.edu.severodvinsk.ru/
СЕРГЕЙ ДАШТАМИРОВ
ГЕРОЙ НЕ ЛЕРМОНТОВСКОГО ВРЕМЕНИ
Нигде так много не пьют кахетинского вина
и минеральной воды, как здесь.М.Лермонтов, «Герой нашего времени»
Кисловодск, погружающийся в ночь, радушно принял в свои прохладные бархатные объятия – такие желанные после изнурительной жары. Группа местных жителей в конце перрона, ближе к выходу в город, демонстрировала своё гостеприимство картонными табличками о сдаче жилья. К ним мало кто подходил: многие прибыли по санаторно-курортным путёвкам и в жилье не нуждались, меня встречали родственники; но нет сомнения в том, что, если вы приедете сюда «дикарём», вас тоже встретят – без крыши над головой не останетесь.
… Утро следующего дня, вопреки прогнозу, выдалось не настолько прохладным, да и обещанным дождём с грозой не пахло. Родственники, надо сказать, заготовили целую культурно-развлекательную программу: что ни говори – давно не виделись. Но посещение Нарзанной галереи и непродолжительные прогулки по парку – дело святое.
… Нарзанная галерея, отреставрированная за три года моего отсутствия в Кисловодске, – настоящий кладезь для человека пишущего: здесь можно собрать целую коллекцию образов для будущих повестей и рассказов.
Отдых «на водах» – старинная забава русской аристократии, теперь доступен многим. Кого здесь только ни встретишь: и знакомых, и смутно знакомых. Вот молодая семейная пара с трёхлетней девочкой, они счастливы; вот пара пожилых людей, они в одинаковых чёрных пиджаках с фронтовыми наградами на груди; груз лет прожитой стариками жизни чувствуется, но они не менее счастливы, чем молодая пара. Ещё одна пара – мужчина и женщина средних лет; немецкая речь выдаёт иностранных гостей…
Отдыхающих – местные чаще называют их «больными» – легко отличить по общему признаку: все они в лёгкой спортивной одежде, новых, специально приобретённых по случаю, кроссовках; широко распахнутые взгляды их «стреляют» по сторонам, стремясь всё увидеть и запечатлеть фото- и видеокамерами.
Теперь, когда прошло какое-то время после возвращения домой, я понял, что, если бы решение о поездке не было принято экспромтом, не случилась бы эта встреча, о которой я хочу вам рассказать.
… На прогулку в парк я отправился с утра после лёгкого завтрака и чашки кофе. В Нарзанной галерее привычно набрал холодного доломитного нарзана и присел на скамью, чтобы не спеша его выпить. Мимо меня, опираясь на трость, прошёл мужчина, показавшийся чем-то знакомым. На вид ему под шестьдесят, но держится молодцевато, несмотря на больную ногу, поступь достаточно уверенная. Наполнил свой стакан нарзаном и устроился на соседней скамье…
Любопытство овладело мною: где я мог видеть этого незнакомца? Или, возможно, мы действительно знакомы?.. Решил понаблюдать за привлекшим моё внимание мужчиной. Тот, закончив с нарзаном, направился к выходу из галереи. Стараясь не привлекать к себе внимание, я направился следом…
Вначале незнакомец неспешно прошёлся по торговым рядам с сувенирами, затем осмотрел выставленные здесь же картины местных художников-любителей, «тиражирующих» окрестные пейзажи; некоторое время наблюдал за ходом шахматной партии блиц; когда на часах одного из партнёров «упал флажок», тяжело вздохнул и направился дальше. Судя по всему, незнакомец имел понятие о шахматной игре.
Наш маршрут продолжился вдоль набережной реки Ольховки. Я следовал на небольшом удалении от незнакомца; мы периодически останавливались и, облокотившись на чугунный парапет, смотрели на прозрачную воду, ниспадающую по каменным порогам, образуя красивый водяной каскад. Журчание воды действовало успокаивающе, дышалось легко. Понятно: его больная нога требовала отдыха – этим и вызваны периодические остановки. А с другой стороны – куда спешить от этой красоты?!
Но вот объект моего наблюдения, если можно так выразиться, свернул влево – к памятнику Пушкину. Удобно устроившись на парковой скамье под старой сосной, он отставил в сторону трость, достал какую-то книгу в тёмно-синем переплёте и углубился в чтение. Я присел поодаль и продолжил наблюдение; любопытство моё нарастало всё с большей яростью.
Через некоторое время по стволу сосны спустилась рыжая белка с пушистым хвостом и устроилась на спинке скамьи, на которой сидел мужчина, рядом с его плечом. Мужчина не замечал белку, и рыжая бесцеремонно взобралась к нему на плечо. Обратив наконец внимание на зверька, тот расстелил на скамье носовой платок и что-то насыпал на него – это были кедровые орешки.
Теперь я наблюдал за двоими: белка лакомилась орешками, то опасливо взбегая вверх по стволу, то возвращаясь обратно, незнакомец продолжал чтение… Наблюдение моё было затруднено, надо было расположиться поближе, не привлекая внимания. Рискуя быть замеченным, я всё же сделал это.
Теперь я пристроился на противоположном краю этой же скамьи. Только белка отреагировала на моё появление, сбежав вверх по стволу. С безразличным видом я достал блокнот, карандаш и сделал вид, что делаю в нём записи; незнакомец при этом оставался в поле моего зрения. Мне никак не удавалось его рассмотреть, но… любопытство, знаете ли, такая вещь – дай ему волю – не отпустит. Притворяться, что я пишу, не очень-то получалось, поэтому пришлось набросать портрет незнакомца; нет, рисую я неважно – записать, создать словесный портрет…
В какой-то момент незнакомец отложил книгу; на синем коленкоре обложки золотым тиснением высветилась надпись: «М.Ю.Лермонтов, Герой нашего времени».
– Грушницкий!.. – вырвалось у меня.
Незнакомец удивлённо обернулся в мою сторону, взяв трость, привстал, наши взгляды встретились.
– Да, это я, не буду отрицать, – отвечал он с достоинством, выправляя осанку. – Грушневский, если быть точным, правильная моя фамилия. Грушницким меня звали ещё в полку…
При этих словах Грушневский изменился в лице, будто что-то вспомнил.
– Матерь Божья! Кого я вижу! Не может быть! Товарищ лейб-гвардии Семёновского полка…
Я мигом вспомнил молодого лейтенанта, прибывшего в наш полк года на два позже меня; он быстро зарекомендовал себя блестящим во всех отношениях офицером: грамотным, решительным, инициативным – чувствовалась «офицерская косточка»! Военную форму носил с гордостью, с особым шиком, свойственным только ему – гвардии лейтенанту Михаилу Грушневскому. Да, Грушневский – его фамилия, это с чьей-то лёгкой руки прозвали его Грушницким: то ли за созвучие фамилий с лермонтовским героем, то ли за его любовь к творчеству поэта, то ли за гусарские повадки…
А «погусарить» Михаил любил!..
Тут можно вспоминать десятки забавных историй, связанных с его именем, но… не для всех ушей эти истории – пощажу читателя. Замечу, однако, что Грушневский и впрямь походил на гусара: осанка, выправка, щегольство, весёлый нрав, короткие «бачки», за которые ему частенько попадало от полкового начальства. Он и полевую форму «модернизировал» по-своему, выстирав её в растворе хлорки, в результате чего на полевых выходах выглядел в ней бывалым воякой.
Не прошло и полугода, как Михаил успел покорить половину женских сердец гарнизона и прилегающих территорий, в том числе чешек и полячек. Но всё это службе, казалось, не мешало; напротив, Грушневский числился в перспективных офицерах и через год значился уже в кандидатах на выдвижение командиром роты. Всё, наверное, так бы и произошло, если бы…
Однако расскажу, пожалуй, одну историю, которая стала мне известна от другого лейтенанта, прибывшего в часть сразу после военного училища, годом позже нашего «героя». Лейтенант Федулов, звали его, если не ошибаюсь, Александром – тоже неординарная личность. Впрочем, речь не о нём.
Точно помню, дело было в понедельник, потому что Федулов выглядел явно «после вчерашнего».
– Ну я же не знал, что у вас здесь такие традиции, – стал оправдываться он, заметив мой вопросительный взгляд. – Опыта не хватило…
– Какие традиции?
– Мишка Грушницкий, то есть Грушневский из разведроты вчера показывал нам, молодым…
– Интересно, рассказывай…
Мне по-настоящему было интересно, ведь то, что придумывал и вытворял Михаил, сразу становилось всеобщим достоянием и распространялось молниеносно, обрастая при этом дополнительными подробностями.
– Грушневский рассказал нам о первой офицерской традиции, о том, как у нас в полку принято встречать молодых офицеров, сказал, что эта традиция исключительно наша, потому что мотострелковый полк – единственная в гарнизоне войсковая часть, имеющая наименование гвардейской…
Я слушал, не перебивая рассказчика, и он продолжал:
– Это исключительно наша – гвардейская традиция, так нам сказал Михаил. Она идёт ещё от лейб-гвардии, и мы должны ей следовать…
Федулову было не очень хорошо, и я пододвинул к нему гранёный стакан, налил из графина воды. Он с жадностью выпил, налил себе ещё стакан, затем другой, поглотив их содержимое с удивительной быстротой, стуча зубами о стекло.
– Сначала он повёл нас по малому кругу, – облегчённо вздохнув, продолжил Федулов, – начали мы с кабака, что напротив КПП полка…
Рассказ лейтенанта Федулова представал в моём воспоминании цельной «картинкой», так я его и постараюсь вам передать.
Как я понял, Грушневский решил приобщить к полковым «традициям» четверых вновь прибывших молодых офицеров. Экскурсия «по местам боевой славы» гарнизона, которую он провёл для будущих боевых товарищей, предусматривала посещение рестораций. Пройти по «малому кругу», означало: посетить тот самый «гостинец», что возле полка, и ещё четыре, расположенных вокруг центральной площади чешского городка, в котором мы дислоцировались. Был, соответственно, и «большой круг»…
В «Славое», кабачке напротив полка, с которого наши герои начали свою «экскурсию», Грушневский заказал на всех пиво и сосиски.
– Это «национальное угощение» у чехов, – пояснил он, – здесь мы, холостяки, по субботам проводим ПХД – парко-хозяйственные дни, – он сделал паузу и, увидев ожидаемое недоумение в глазах «экскурсантов», знавших, безусловно, что ПХД – это работа в автопарке по техническому обслуживанию бронетехники и артвооружения, пояснил:
– Запомните, салаги! Парки – те же сосиски, которые вы сейчас уплетаете за обе щёки, только по-чешски! После автопарка мы здесь продолжаем ПХД: пьём пиво с парками – куда же ещё холостяку податься?.. Изучайте чешский язык на практике, друзья мои!
«Молодёжь» дружно гоготнула, усваивая первый урок.
– Добавки не будет, идём дальше!.. Пан Янек, платим, – подозвал Михаил бармена, чтобы рассчитаться. Его попутчики засуетились, готовя деньги.
– У нас так не принято! Платит принимающая сторона, то есть я – лейб-гвардии Семеновского полка лейтенант Михаил Грушневский! Впрочем, – он сделал небольшую паузу, – чтобы не ущемлять вашего достоинства, господа офицеры, я позволю вам рассчитаться. Вы можете так же благородно поступить с новичками, когда окажетесь в моей роли. Но дальше плачу я. И не пререкаться! Пошли!
… Офицеры угощались пивом, удивляясь тому, что в каждом ресторанчике оно имело свой специфический вкус; тому было простое объяснение: каждый хозяин заведения имел своего пивовара, и между ресторациями шла настоящая борьба за посетителя. Каждый раз Грушневский, чтобы подчеркнуть эту разницу, заказывал только пиво и солёные палочки; завершить обход он решил в ресторации «На поште», располагавшейся рядом с военной комендатурой…
Михаил пообещал уже успевшим подружиться офицерам какой-то сюрприз.
«На поште» – ресторан в два яруса, этим он в первую очередь отличался от тех, которые уже успели посетить друзья. Поднялись на второй этаж. Начали с пива. В дальнем углу за большим столом группа молодых чехов, дойдя уже до нужной кондиции, распевала национальный гимн – это обычное здесь явление. Было сильно накурено и шумно. Принесли вино с солёным миндалём, официант сделал какие-то пометки на небольшом белом листке бумаги и удалился, оставив его на краю стола.
– У них так принято, – пояснил Грушневский, – когда закончим трапезу, он рассчитает нас по этому «листэку», а теперь, догадываюсь, ваши желудки требуют чего-нибудь мясного, – и он заказал фирменное блюдо этого ресторана.
Порции показались маленькими, заказали ещё, официант моментально заменял опустевшие пивные бокалы полными, количество пометок в «листэке» увеличивалось…
– А теперь – сюрприз! – торжественно произнёс Грушневский. – Я угощу вас коньяком, который вы в жизни никогда не пили, а может быть, больше и не придётся!
На столе появилась бутылка французского коньяка «Martell»; понимая дороговизну напитка, «молодёжь» забеспокоилась о финансовой состоятельности «принимающей стороны».
– И без хипиша! Всё будет как надо! Я плачу! Если вы забыли, салаги, напомню: слово русского офицера – слово чести! Оно должно быть твёрдым: Грушневский – сказал, Грушневский – сделал!
Грушневский сам разлил коньяк и предложил тост:
– За русское офицерство! Стоя!
Спиртное и закуски на столе постепенно таяли, время было уже за полночь.
– Пойдём покурим, да будем закругляться, – предложил Михаил.
– А разве здесь нельзя? – указывая на пепельницу с окурками, стоящую на столе, спросил Федулов.
– Федул, чего губы надул? Не понятно, что ли? Пойдём, пойдём, заодно и руки помоем – на дорожку.
Спустившись на первый этаж, друзья нашли заветную дверь с табличкой «WC»; в туалетной комнате было меньше сигаретного дыма, чем в залах ресторана.
Покурили, потравили анекдоты.
– А теперь фокус! – Грушневский покрутил перед друзьями тот самый расчетный «листэк», который он прихватил со стола, и «на глазах изумлённой публики» поднёс к нему зажигалку. Бумага легко поддалась охватившему её пламени.
За свой столик друзья возвратились с невинным видом и вымытыми руками.
– Официант! Пять пив, и посчитать! – распорядился Грушневский.
Официант принёс пиво и застыл в растерянности, не находя взглядом «листэк»; друзья тем временем спокойно допивали пиво.
– Пан поручик, – не выдержал он, – я сэм нэвим, дэ то е листэк…
– Нэ розумим, – ответил Грушневский, пожимая плечами и делая вид, что ищет расчётный листок, – в смысле, я тоже не понимаю. Колик платим?
– То е, – вздохнул обескураженный чех, – про листэк сто корун, але пять пив по 2,70…
– Вот двести крон, – Михаил положил две купюры зелёного цвета, – сдачи не надо! Мы не оккупанты какие-нибудь! Бывай, камрад, наскледаноу! Господа офицеры, за мной!
… Так или иначе, но командованию полка стало известно о выходке Грушневского, которую иначе как авантюрой в духе Остапа Бендера, не назовёшь. Скорее всего, он уже не первый раз применял это «фокус», и чехи, потеряв терпение, пожаловались военному коменданту. Федулов поведал мне о подробностях происшедшего после утреннего развода.
Во время развода, на строевом плацу, начальник штаба, оставшийся за командира полка, вызвал офицеров к трибуне и устроил разнос лейтенанту Грушневскому.
– Да я вас в двадцать четыре часа! – пригрозил он лейтенанту, заканчивая взбучку.
Отправить «в двадцать четыре часа» в Союз – действенная мера влияния на нерадивых офицеров, проходивших службу в группах советских войск за рубежом; хотя и не предусмотренная Дисциплинарным уставом, она могла поставить жирный крест на дальнейшей служебной карьере.
С некоторых пор начштаба майор Гуртовой не упускал случая, чтобы не подчеркнуть свою власть над Грушневским, при этом он не выбирал выражений. Упоминались и пресловутые «двадцать четыре часа». Михаил, всегда демонстрировавший изумительную выдержку, на этот раз ответил:
– Да не надо меня Родиной пугать, товарищ гвардии майор! Есть в двадцать четыре часа! Разрешите идти?! – и, не дожидаясь ответа майора, чётко печатая шаг, покинул плац.
Вероятно, среди моих читателей найдутся те, кому тоже довелось служить в группах советских войск – в Германии, Чехословакии, Польше, Венгрии – составлявших вместе с СССР военный блок – Организацию Варшавского Договора, созданный в противовес Североатлантическому Альянсу – НАТО. Они, безусловно, осведомлены об этой мере воздействия: «в двадцать четыре часа»; приходилось им слышать и ставшее крылатым выражение: «Не надо нас Родиной пугать!» Но то, что авторство этого выражения принадлежит нашему Грушневскому, видимо впервые, подтверждаю сегодня я.
Офицеры догадывались о причине обострения отношений между Гуртовым и Грушневским, но здесь пора возвратиться к тому самому «если бы», от которого я вас несколько увёл.
… Итак, напомню, что молодой, перспективный, блестящий во всех отношениях офицер, весельчак и балагур, зачисленный в кадровый резерв для выдвижения на вышестоящую должность, Михаил Грушневский пользовался большим успехом у женщин. И всё, как я уже сказал, было бы хорошо, если бы не обратил он свои чары на заведующую солдатским кафе.
И завязались у них отношения. И закрутился роман! Прекрасно – дело молодое! И снова «если бы»: заведующая солдатским кафе оказалась женой майора Гуртового!
Вскоре после памятного случая на плацу лейтенант Грушневский как сквозь землю провалился. Убыл к новому месту службы и майор Гуртовой. История эта ещё некоторое время «погуляла» по курилкам, да и забылась.
И вот, теперь – такая неожиданная встреча!
– … Андрей Андреич, вы ли это! – закончил фразу Грушневский.
– Рад, что узнал меня, Миша!
– Наверно, уже полковник? – чувствовалось, что Грушневский искренно рад нашей встрече. – Не сомневаюсь, а я вот трижды был капитаном и дважды майором…
– Это как же?
– Капитана я ещё в Чехословакии получил, причём досрочно…
– А куда же ты тогда исчез-то? Мы думали, что тебя в двадцать четыре часа на Родину отправили…
– Нет, в другой полк перевели, Анжелка тоже со мной поехала. Помните её?.. Мы ведь в одном классе учились, не знаю, как она с Гуртовым «пересеклась»… Ну, да ладно. Женились, дочурку она мне родила. Я же прямо из ЦГВ – в ЗабВО заменился, и – встречай меня, Афган!.. Как там у Лермонтова?
Зажглась, друзья мои, война,
И развились знамёна чести;
Трубой заветною она
Манит в поля кровавой мести!
Грушневский замолчал, достал сигарету, но закуривать не стал, какая-то тень прошла по его лицу.
– Там много чего произошло, – продолжил он, разминая сигарету, – вспоминать не хочется.
– Впрочем, – он взглянул на часы, – война – войной, а обед – по распорядку! Золотое правило! Я тут знаю место – лучшего шашлыка не найдёте! Пойдёмте, я угощаю!
… Когда мы расположились за столиком, Грушневский заказал два шашлыка и красное вино, пояснив, что от крепких напитков давно отказался, а к шашлыку как раз полагается «красное».
– Милейший! Шашлык, пожалуйста, на шампурах подайте! – попросил он официанта и взглянул на меня. – Вы не будете возражать?
– Ваша воля, милостивый государь! – ответил я в тон его обращениям: «Матерь Божья», «милейший», на которые невольно обратил внимание. Раньше в лексиконе моего собеседника присутствовали иные обороты речи.
– Вот и славно! – Грушневский улыбнулся в ответ, но продолжил прерванный в парке рассказ прежним грустным тоном:
– Да, в Афгане много чего произошло… Там первый раз превратился из майоров в капитаны, – он чиркнул зажигалкой, прикуривая сигарету, выпустил кольцо сизоватого дыма.
– Да я не жалею, считаю, был прав. Замполит полка оскорбил моих подчинённых, я выразил ему «руко-при-клад-но-е неудовлетворение». Через год восстановили, но вы же меня знаете…
– Догадываюсь. Опять какая-то тыловая крыса под руку попала?
– Ну да! Ох, уж эти тыловые крысы – они у меня на особом счету! – Михаил стряхнул пепел в пепельницу и сделал пару глотков вина.
– В общем, навоевался! Три ранения, контузия, а это, – Грушневский указал на больную ногу, – память о Кавказе – подорвался вместе с БТР. Теперь у меня, как у лорда Байрона – одна нога короче!
Сравнивая себя с Байроном, Михаил даже улыбнулся, блеснув глазами.
Я отметил для себя его деликатность: «память о Кавказе» – ясно, что речь идёт о Чечне, но он не произнёс этого слова, потому, что Чечня – не Афганистан. Две эти такие разные и такие похожие войны двадцатого столетия неоднозначно, скорее негативно оцениваются нынешними политиками. Они, политики, забывают, что именно ими, а не солдатами развязываются войны. Армия – инструмент в руках политиков. У солдат – одна правда – военная присяга, воинский долг, чувство ответственности за того, кто воюет рядом, плечом к плечу, за тех, кто остался за их спинами…
– Да что мне, Андрей Андреевич, все эти ранения и контузии?! Если самое тяжёлое ранение, можно сказать, смертельное, я получил там, где совсем не ожидал, и где не стреляют. С тех пор и не живу вроде…
И он поведал мне, как однажды…
В общем, как в расхожем анекдоте – «вернулся муж из командировки». Только не из командировки, а из госпиталя на побывку после ранения возвратился боевой офицер.
– Понимаете, я – с цветами, сюрприз хотел сделать, захожу и вижу: на спинке стула подполковничий китель, а моя Анжелика – Маркиза Ангелов, так я её называл – в моей же спальне с этим… Они меня даже не заметили.
Грушневский запнулся.
– Нет, Андрей Андреевич, не осуждайте меня, – продолжил он, как бы оправдываясь. – Я кодекс чести русского офицера хорошо помню. Там сказано: «Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была». Клянусь честью, до сих пор никому об этом не рассказывал, вот с вами почему-то разоткровенничался…
Снова возникла пауза, я не стал её нарушать, давая собеседнику побыть мыслями в прошлом, и обратился к шашлыку.
– Но вам, думаю можно, тем более что через три года они погибли в автокатастрофе: Анжела вместе с дочкой и её новый муж. Так что, выходит, я ничью репутацию подорвать уже не могу.
Михаил рассказал, как снова вернулся в Афганистан, не дожидаясь окончания отпуска по ранению, как сам лично оформил извещение о том, что он «пропал без вести», и отправил жене – понимал, что ждать и искать не будет. А «без вести» он почти пропал, когда его, контуженного, захватили душманы… Отбили бойцы во главе с Александром Федуловым – тем самым.
– Повезло мне, что наши пути-дорожки пересеклись ещё раз. Жаль, Сашке Федулову не повезло: погиб в следующем бою, – вздохнул Михаил. – Чем я могу гордиться в своей жизни, Андрей Андреевич, так это друзьями. На женщин других, после Анжелки – смотреть не могу.
И он вдруг стал декламировать:
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
– Как прав Лермонтов! Только здесь я отдыхаю душой!.. Бэла! Иди сюда, – позвал он собачку, сидевшую у входа в кафе.
Маленькая белая собачка, взвизгнув, помчалась на зов. Я вспомнил, что видел эту собачонку ещё в парке. Она следовала за нами. Очевидно, что не из-за белой масти назвал её Грушневский «Бэлой»…
Михаил погладил доверившуюся ему собачонку по голове, потрепал за холку, та отвечала на ласку, поскуливая и облизывая ему руки.
– Посмотрите, какие у неё умные глаза, Андрей Андреевич! Сколько в них благодарности, доверия и преданности, – он снял с шампура остатки шашлыка на тарелку и опустил её на пол.– Ешь, подруга!
Собака приняла угощение, благодарно виляя хвостом.
– Третий день, как привязалась ко мне. Не могу я быть равнодушным к собакам. Скажите, разве есть ещё у какого живого существа такие глаза, такой умный и преданный взгляд?! Ешь, милая, ешь, Бэла, – он ещё раз погладил её.
– Только меня не отпускает другой взгляд, глаза другой собаки.
Было это ещё в Чехословакии. Чехи подарили нам с Анжелой комнатную, не помню, какой породы – что-то из «терьеров». Когда у нас появилась малышка, Микки стала для дочки почти что нянькой. Она сопровождала нас на прогулках, останавливала на перекрёстках машины, пока мы с коляской не переедем на противоположную сторону улицы. На маршруте наших прогулок жила её подруга колли. Собаки всегда очень мило приветствовали друг друга.
Когда у колли появились два щенка, надо было видеть, с какой гордостью она представляла Микки своих детёнышей, а та на языке, только им понятном, поздравляла подругу. Игривую, весёлую Микки знала и любила вся уличная детвора. Несколько раз её похищали, но каждый раз она прибегала с обрывком верёвки на шее домой.
Возвращаюсь как-то с полигона, месяц не был дома, а Микки меня не встречает, как это всегда было – лежит в углу, на своём месте и смотрит на меня тусклым горестным взглядом, не в силах подняться: клещ, оказалось, укусил. Куда только девалась её былая энергия и игривость! Болезнь прогрессировала быстро, скоро она не могла ни есть, ни пить, а в глазах – мольба о помощи…
Бэла, покончив с шашлыком, лежала у ног Грушневского и, положив голову на лапы, казалось, внимала каждому слову рассказчика.
– Однажды поздним вечером я пришёл домой не один. Увидев бойца с автоматом на плече и вещмешком, Микки тяжело поднялась со своей лежанки и, медленно передвигаясь, покорно подошла к нам – она всё поняла. Подняла на меня глаза, в них я увидел благодарность за то, что её поняли; собачья слеза выступила и застыла жёлтым янтарём на её носу – Микки прощалась. Поместив в вещмешок, мы вынесли её за город; за всё время пути она не издала ни звука, только коротко закряхтела, когда мешок коснулся земли. Всё решил одиночный выстрел.
Наутро вся ребятня знала, что Микки не стало… А глаза её, тот прощальный, благодарный, как мне показалось, взгляд, забыть не могу.
Мы помолчали. Молчание прервал Грушневский:
– А ведь я любил её, мою Маркизу Ангелов. До сих пор, наверное, люблю…
Кадык его дёрнулся, желваки напряглись, он взглянул на меня такими, полными отчаяния глазами, что мне стало не по себе…
– И всё-таки – водки! – Михаил сделал знак официанту, тот без промедления исполнил его желание.
– За ребят, Андрей Андреич, за Саню Федулова!
Грушневский встал, по-офицерски держа локоть, залпом осушил полстакана водки, не закусывая.
– Я пойду, товарищ полковник! Честь имею!..
Чётко, по-военному развернувшись, он направился к выходу, прихватив на руки собачку. Заметив забытую Грушневским трость, я поспешил следом, чтобы отдать её.
Мой бывший сослуживец уже был далеко и ни разу не обернулся, пока не скрылся из виду. «Нет, ты совсем не Грушницкий – самолюбивый, слабохарактерный, бесчестный человек, у тебя своё имя – Михаил Грушневский, русский офицер!» – думал я, глядя ему вслед.
Возвратившись к столику, чтобы рассчитаться, я увидел на нём две зелёные купюры – Михаил расплатился, не забыл.
А забытую им трость я и теперь храню как память о нашей встрече.
(п. Каменоломни, Ростовская область)
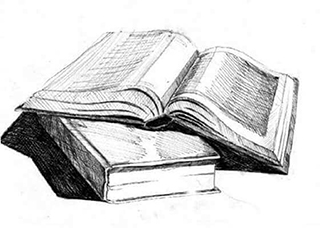
МИХАИЛ ЛАПШИН
ЗВЕЗДОЧКА
Июль семьдесят второго года в Москве и Подмосковье выдался жарким, и Николай строил планы на отпуск. Хотелось поехать в любимый Крым, в посёлок, который когда-то назывался Коктебелем, но по чьей-то прихоти был переименован в Планерское.
Но планы на скорый отпуск неожиданно нарушило начальство. Николая вызвал начальник отдела и сказал, что на институт из райкома партии пришла разнарядка на сенокос. От их отдела нужно послать двух человек на две недели на уборку сена. Ехать придется недалеко, в Подмосковье. Место называется Семёновское. Он назвал отделу кадров две фамилии, в том числе и Николая.
Вторым из отдела направляли Александра – доброго и никогда не унывающего очкарика, с которым Николай учился в одной группе и к которому, испытывал самые добрые чувства. У Саши отец был когда-то послом в Китае, потом – заместителем министра, но Александр никогда не чванился, был очень простым в общении, за что и любили его товарищи.
Свое решение начальник обосновал тем, что – «Вы оба молодые специалисты, к тому же холостые, у вас не плачут семеро по лавкам. Остальные мужики отдела по разным причинам или не могут поехать, или готовятся к отраслевой конференции».
Было обидно, что вместо участия в конференции, на которой планировался и доклад Николая, придется осваивать древнюю крестьянскую профессию, о которой Николай, как городской житель, не имел никакого понятия. Это явно означало, что подготовленный им доклад руководству не очень важен. Было обидно вдвойне, потому что Николай чувствовал прохладное отношение начальника отдела к себе по сравнению с другими молодыми специалистами, пришедшими на работу в отдел одновременно с ним.
И хотя вопрос шефской помощи и решение парткома института не предполагали обсуждения, видя огорчение Николая, которое тот не мог скрыть, чтобы «подсластить пилюлю», начальник сказал, что за работу в колхозе будут даны отгулы, которые можно добавить к отпуску. Доклад же опубликуют в отраслевом сборнике, который Николай получит после отпуска.
Из всех доводов для Николая важным был тот, что название «Семёновское» было известным в их семье. Если это было «то самоё» Семёновское, то в нём отец Николая, родившийся в соседней деревне Бабье, учился в семилетке.
– Может быть, удастся повидать родину отца и трёх его сестёр – пытаясь утешить самого себя, думал Николай.
* * *
Через день автобус вёз по Минскому шоссе группу сотрудников для оказания селу шефской помощи. Оказалось, что почти все отделы на сенокос отправили молодых специалистов, закончивших, как и Николай, два года назад один и тот же вуз. Все ребята были знакомы, и в автобусе часто звучал смех. Смеялись молодые люди, полные сил. Было здорово, что они снова вместе и будут заниматься мужской работой.
В Семёновском автобус подъехал к бараку, в котором и разместили для проживания всю группу. С раннего утра следующего дня каждый день за ними заезжал колхозный грузовик и отвозил на поля. Ребят прикрепили к бригаде, за которой было закреплено несколько полей.
Работа оказалась простой и посильной, но, намахавшись вилами за целый рабочий день, горожане, не привыкшие к ежедневному долгому физическому труду, чувствовали свою мускулатуру. Вся группа на нескольких полях собирала копны скошенной и успевшей подсохнуть травы. Потом эти копны подхватывали тракторы и грузили на машины, там наверху машин работали женщины, разравнивавшие копны. Было удивительно, что машины загружали очень высоко, так, что получался готовый стог, который отвозили на хранилище.
На поле, где работал Николай с друзьями, машины загружал трактор «Беларусь». Трактористом был крепкий весёлый парень. Он работал очень споро и ещё успевал оригинально подшучивать над женщинами, работавшими наверху. Забросив наверх очередную копну, он иногда толкал трактором машину, сбивая женщин с ног. Те беззлобно матюкались на громко смеявшегося тракториста, хотя, если бы кто-то из женщин упал с загруженной машины, кончилось бы это плохо. Но, видимо, этот трюк был давно отработан. Николай же, каждый раз, наблюдая за проделками тракториста, волновался за возможный исход его озорства.
В обед на поле приезжала кухня, и ребят сытно кормили, хотя к исходу рабочего дня, после физической работы вновь просыпался аппетит. В конце смены ребят отвозили в столовую рядом с бараком.
Командовал бригадой улыбчивый мужичок маленького роста с большой головой, даже в жару прикрытой серой кепкой. Все его звали «дядя Ваня». Несмотря на свой небольшой рост, он ходил удивительно быстро и стремительно перемещался по всем закрепленным за бригадой колхозным полям. Николай, глядя на дядю Ваню, всякий раз ловил себя на том, что бригадир напоминает ему скорохода из детской сказки «Маленький Мук».
* * *
Через несколько дней ребята освоили нехитрую технологию собирания копён, в которой главным и единственным орудием были вилы. Втянулись и работали с удовольствием.
На небе не было ни тучки, ежедневно с раннего утра немилосердно палило солнце, и все загорели. В один из особенно жарких дней их отвезли на дальнее поле. Из-за жары с трудом дотянули до обеда. Когда пришло время обеда, двинулись на край поля, чтобы спрятаться в невысоких деревьях; сюда же должны были подвезти обед.
Закончив трапезу, прилегли на теплую землю. Обеденное время ещё не закончилось, и можно было отдохнуть. Александр пошел прогуляться в редкий лесок. Через время вышел с костью, которую нашел в небольшой ямке на краю леска. Он начал примерять её к своим конечностям и объявил, что это кость человека, причем берцовая.
К этому времени подоспел бригадир и прилег рядом с отдыхающими ребятами. Николай сказал ему, что Саша нашел вроде бы кость человека. Дядя Ваня ответил, что их здесь много. Здесь шли тяжёлые бои, и, видимо, наших убитых солдат не успевали хоронить или хоронили наспех и неглубоко.
Саша спросил бригадира, почему же их не перезахоранивают. Дядя Ваня сказал, что кости собирают каждый год и на 9 Мая хоронят на краю села, рядом с братской могилой. Но костей так много, что все собрать не могут, берут только скелеты, а кости конечностей, как правило, оставляют. Бригадир помолчал и добавил, что это поле во время войны прозвали «долиной смерти» – такие страшные здесь шли бои. Хотя уже после войны он слышал это название в разных местах. Никто не знает, сколько погибло на таких полях наших солдат. Никто их не считал. Чтобы всех захоронить, тут нужно всю землю перекопать, да кто же это будет делать… К живым-то относились кое-как, а уж к мертвым – и подавно.
Бригадир вздохнул тяжело и снова замолчал. Чтобы прервать затянувшееся молчание, Николай спросил:
– Дядя Ваня, а вы воевали?
– А как же.
– А в каких войсках?
– Охранял аэродромы. На аэродромы иногда диверсантов забрасывали.
Увидев удивленные лица Николая и лежащих полукругом ребят, дядя Ваня, как бы разъясняя, продолжил:
– Я с Поволжья, двадцать пятого года рождения, и меня забрали в армию в начале сорок третьего. Сюда, в Подмосковье, я приехал уже после войны, завербовался работать в лесхозе, потом перешел сначала в совхоз, а потом в наш колхоз, где я уж десять лет.
Чувствовалось, что дядю Ваню не часто спрашивали о войне, и он был рад искреннему интересу ребят.
– Из нашей деревни меня и ещё двух парней с другой улицы призвали последними. Все уже воевали, а после нас оставалась одна малышня. Старших всех подмели в первый год. И моих дядьев – дядю Сергея и дядю Степана. Дядя Сергей погиб в Белоруссии, а дядя Степан вернулся, но без ноги. Мой отец был старшим из братьев в их семье, так его забрали уже после меня. Он погиб в Польше.
Дядя Ваня помолчал, перевёл дыхание; видно было, что и после стольких лет говорить об этом ему было нелегко.
– У нас деревня была большая. Похоронок много приходило, в основном на старших, но и на пацанов, кто раньше призывался. Мой друг Генка Пухов был на год старше меня. Мы с ним вместе трактористами были, когда старших забрали на фронт. Он погиб в самом конце войны, уже где-то в Германии. А у него девчушка была хорошая, звали её Полина, из соседней деревни, она его сильно ждала, говорят, убивалась, когда узнала о его гибели, а потом куда-то завербовалась и уехала. Больше не вернулась. Мы с Генкой жили с одного конца улицы, а с другого конца тоже погиб парень, он был на три года старше меня. Говорили, что сгорел в танке; он офицером был.
– А как вы попали на аэродром?
– Наверное, из-за моего малого роста. За войну я послужил на пяти аэродромах. Сначала мы охраняли аэродром под Брянском, потом, когда наши наступили, аэродром перевели под Великие Луки, а уж потом, в сорок четвёртом, послужил на аэродроме под Псковом. У нас был бомбардировочный полк. Потери в полку были большие – за месяц выбывала, считай, примерно половина летунов. Причём ребята, я теперь понимаю, были совсем молодые, тех, что постарше, выбили в первые годы
– А как охраняли аэродром, вы что, ходили вокруг него.
– Да нет, у нас посты были на расстоянии видимости, ну а ночью мы помогали прожектористам светить, если было нужно, ну там, если тревогу объявляли. А ещё мы помогали при подвеске – бомбы подвешивать. Ну, были специальные люди для этого, а мы помогали им и подтаскивали бомбы со склада к самолетам.
– Дядь Вань, а награды у вас есть?
– Есть.
– А ордена?
– Есть. Один… Звездочка.
– А за что получили?
– Вот, как раз, когда мы стояли под Псковом, рядом с аэродромом выбросили десант, причём это были финны. Они были страшнее немцев, очень жестокие, и их сильно боялись. Все здоровенные и искусные вояки, умели ножами бесшумно работать. Забросили их поздно вечером, и нас к полуночи подняли в цепь. Собрали всех, кого можно. Лес был большой и густой подлесок, и мы в цепи держали расстояние метров пятьдесят. Был небольшой туман, но сильная роса. Трава и даже кустарники были в росе. Я здорово промок, гимнастерка и обмотки – насквозь. Хорошо еще, что было не холодно.
К утру мы были на ногах уже несколько часов, и мне сильно хотелось пить. Я несколько раз ходил перед этим по лесу, примечал по привычке, что-где, и знал, что должен подойти к ручью, из которого и собрался попить.
Мы не перекликались, и я не знал, где боец, что справа, и где левый. И, правда, смотрю – вышел к ручью. Я шёл тихо, и только присел к ручью, опустил левую руку в воду, чтобы зачерпнуть воды, – чувствую, кто-то смотрит на меня. Поднял глаза и увидел на другой стороне мелкого ручья диверсанта. Он стоял в полный рост и действительно смотрел на меня. Между нами было метров пятнадцать.
По тому, как, не спеша, дядя Ваня рассказывал, было ясно, что он ничего не забыл, помнил эту ночь во всех деталях, хотя прошло без малого тридцать лет.
– Он, наверно, ждал, когда я поднимусь, а то так, вприсядку, я совсем был небольшой, да еще каска сильно лицо закрывала. У меня перехватило дыхание, а автомат был снят с предохранителя; я как сидел, так и дал очередь восьмеркой.
Дядя Ваня помолчал.
– Меня отец даже малым брал с собой на охоту, я и стрелял хорошо.
Он снова умолк.
– Финн этот упал, а я долго не мог встать, и так и сидел, не мог подойти к нему. Только когда на мою стрельбу ко мне подбежал наш сержант, мы вместе перешли ручей и подошли к финну. Он был высокий, одет в новую форму и ботинки, автомат у него был не немецкий, а финский, нам такой на занятиях показывали. В левой руке у него была финка. Он, наверно, был левша и собирался бросить нож в меня.
Я эту финку долго хранил и на охоту после войны с ней ходил, но потом, когда попал в наводнение, она куда-то пропала, я так её и не нашел. Вот за этого финна мне и дали звездочку. Я её долго на ремне носил, как наши летчики. Они ордена носили на ремнях, не на гимнастерках же в бою. А были случаи, что это спасало от осколков. Но потом мне ротный сделал замечание, и я стал носить её на гимнастерке.
– А что с остальными диверсантами?
– На нашем аэродроме они ничего не сделали. Из наших ребят они убили троих. Ножами. Но и их четверых, считая и «моего», наше оцепление порешило. Я первым стрелял, потом еще стреляли, до самого рассвета. Остальные финны ушли куда-то на cевер, их потом долго вылавливали, думаю, всех поубивали, потому что их гоняла, говорили, целая рота.
– Дядя Ваня, столько лет прошло, а всё подробно помните.
– Да разве такое забудешь? Я ведь только одного и убил. Убить человека, даже на войне, не просто. У нас лётчиков много погибало, но они гибли где-то там, на задании, мы этого не видели. Несколько раз, правда, прилетали с заданий самолеты сильно побитые, и в экипажах были убитые.
Нам, охране аэродромной, как раз и поручали хоронить погибших на краю аэродрома. Тоже работа ещё та. Привыкнуть невозможно. Ребята молодые, часто мои ровесники, на могиле – звездочка и фамилия. Да я думаю, что они недолго сохранялись, быстро всё ржавело. И война шла долго, и после войны не сразу разыскивать начали.
А про мирное население и говорить не приходится. У меня жена из-под Калуги, село Андреевское. Село очень большое. В сорок первом немцы пришли туда в начале ноября, а когда наши на Рождество начали наступать, то немцы сожгли половину села, остались одни печные трубы, а морозы в тот год были страшные. Причем обливали дома какой-то горючкой и поджигали. Немец лютовал, старался убивать всех, особенно парней. У жены двух братьев убили, их в тот год не взяли в нашу армию по возрасту; потом-то таких уже брали. У них в селе школа была кирпичная, и все погорельцы собрались там с вещами. Так немцы школу закрыли снаружи и забросали гранатами. Никто не остался в живых.
От дома жены ничего не осталось, они прятались в погребе на огороде. Немец их в спешке не нашёл, а соседи тоже прятались в погребе, у них в семье было шестнадцать человек. Немцы подожгли их погреб, и вся семья сгорела, смогли выбросить только девочку в одеяле.
Дядя Ваня замолчал, покусывая травинку, и, как бы подводя итог разговору, сказал:
– Вообще, как люди пережили всё это, сейчас трудно представить. Снова возникла пауза. Чтобы переключить разговор, Николай обратился к бригадиру:
– Дядя Ваня, а у меня отец здесь рядом родился, в деревне Бабье.
– Бабьего этого нет. Я хоть и не местный, но слышал, что немцы Бабье и ещё несколько деревень в округе начисто сожгли. Хочешь, поговори с Валентином, вон на этом поле, на «Беларуси» ездит; после работы смотайтесь туда – посмотришь.
– А можно.
– Можно. Да тут рядом. Шесть километров. По-быстрому, туда и обратно.
* * *
Валентина не пришлось уговаривать, и после работы они отправились на тракторе к тому месту, где до войны находилась деревня Бабье. Дорога была похожа на стиральную доску, и Николай боялся, что на этой дороге он оставит все свои зубы. Тракторист же всю дорогу развлекал Николая рассказами. Его голос был похож на голос человека, набравшего в рот воды, которая булькала от непрерывной тряски. Ничего толком нельзя было понять.
Наконец около дороги показались два огромных дерева, росших на широком ровном поле. Подъехав к деревьям, они остановились, и Валентин сказал, что как раз здесь и была деревня Бабье. От неё остались только эти две ветлы. Говорят, что они уже перед войной были большими деревьями.
Николай вылез из трактора и подошёл к деревьям, о которых ему рассказывал отец, и долго стоял около них. Тихий ветер шевелил листву в кронах деревьев, ставших живым памятником сожженным деревням. Казалось, что если сильно прислушаться, то можно услышать тихий шёпот.
Николай прикоснулся к стволу, который сохранял эхо жизней тех, кто жил здесь до войны…
Обратно ехали молча – разговаривать не хотелось.
Через несколько дней отправленные в колхоз на заготовку сена вернулись домой, и узнали, что за время их отсутствия в Подмосковье горели торфяники. Всё было затянуто дымом.
Отпуск в Коктебеле пришлось отложить, но Николай не жалел об этом, потому что поездка на родину отца навсегда осталась в памяти. Он часто вспоминал шелест листьев огромных деревьев, растущих на родине отца, в которых слышались голоса ушедших − тех, кто когда-то радовались жизни, любили и жили в ярком и трудолюбивом крестьянском мире, погибшем во время той страшной войны…
Далекий пастельный Крым по-прежнему манил сиреневой пеленой моря и зеленоватой дымкой гор.
г. Москва
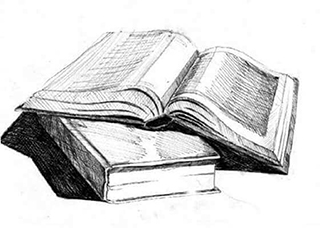
ЕВГЕНИЙ СКОБЛОВ
МАРШ В МЕТРО
Снова метро. Я люблю перемещаться по столице в подземке. Мои приятели – автомобилисты посмеиваются надо мной, дескать, насколько могли бы расшириться границы моей личной свободы, обладай и управляй я автомобилем… по широким проспектам Москвы. Но я непреклонен. Дело даже не в бесконечных пробках и времени потраченном в них, других автомобильных «заморочках», связанных с парковкой, штрафами и прочей ерундой, а в том, что когда уже много за пятьдесят садиться за руль, тем самым перестраивая свою жизнь под новые колёса, на мой взгляд, просто неразумно.
Мне нравится отдыхать в пути, а точнее, активно отдыхать, будь то автобус, купе вагона поезда дальнего следования или вагон метро. Активно, значит заниматься чем-то, на что не хватает времени дома: читать, например, смотреть фильмы с экрана гаджета, может быть даже делать короткие (и длинные) заметки в творческий блокнот. Однажды я сделал наброски целой главы для детской повести в жанре фэнтези за несколько поездок в метро. В моей «путевой» сумке всегда имеется очередная интересная книга, которую всегда хотел прочитать, да всё никак не получалось…
Сегодня я без труда отыскал свободное место в достаточно заполненном вагоне, и, хотя ехать недалеко (от «Пролетарской» до «Баррикадной»), уселся поудобнее, достал книжку и очки. Когда читаешь в метро, до нужной станции добираешься гораздо быстрее. Проверено! И сейчас, читая старую советскую фантастику, я, словно, возвращаюсь в далёкие шестидесятые прошлого века … из далёкого будущего, а именно из середины декабря 2019 года. В наши дни многие фантастические произведения прошлого и читаются, и образно выглядят немного наивно. Но знаете что? Это – прекрасно! Они, в основе своей гуманистические и заряженные энтузиазмом и позитивом, привлекают, притягивают, заставляют думать и мечтать. Искусственный интеллект, каким его представляли в шестидесятых… обмен разумом, полёты в другие галактики, гипнотические сны, переносящие в разные пространственно-временные измерения…
Стоп. Что-то меня отвлекает. Нет, не отвлекает, а раздражает. Прокрадывается, заползает в моё сознание через слух. Нечто такое, что мне неприятно и что отвергает всё моё существо. Я поднимаю глаза от книги и вижу сидящего напротив улыбчивого парня, впрочем, уже и не парня, а молодого мужчину, одетого как парень. Одежда модная, но слегка поношенная (может быть из секонд-хенда), как и его рюкзак, который он зажал между коленками. Капюшон куртки, который он, очевидно носит постоянно сейчас откинут, густая светлая чёлка накрывает лоб, достигая бровей. Взгляд светло-серых глаз сначала блуждает по пространству вокруг и, наконец, замирает на мне. В руках он держит смартфон из динамика которого достаточно громко, так что слышно мне через проход, несмотря на гул движущегося поезда, звучит музыка. Это хорошо известная у нас, а ещё лучше – в Германии строевая песенка, начинающаяся со слов: «Вен ди зольдатен дурш ди штадт марширен…», которая исполнялась под оркестр в составе воинских подразделений… в том числе и СС.
Я вдруг понимаю, что оставшиеся четыре перегона до «Баррикадной» я читать уже не буду.
Парень-мужчина, глядя в мою сторону, продолжает нахально ухмыляться. Он понял, что «достал» меня и мы с ним на одной волне, хотя и с разных сторон. Собственно этого результата он и ожидал. Видимо, я ему сразу чем-то не понравился, и этот цирк он устраивает специально для меня. Я мельком оглядываю стоящих рядом пассажиров – никакой реакции. Кажется, что никто ничего не замечает, хотя я не сомневаюсь, что музыка очень хорошо слышна в радиусе нескольких метров, как минимум. Людей немало, но никто не смотрит в сторону человека, слушающего специально не в наушниках, а через динамик фашистские марши в московском метро.
Между тем он включил следующий трек — раздаётся очередной марш, очень популярный в Третьем рейхе «Lore, Lore, Lore…» По всему, у него целая подборка, а может быть и ВСЯ память телефона заполнена этой и подобной хренью… типа речи фюрера на каком-нибудь нацистском «Съезде Великой Германии»…
Я чувствую, как что-то внутри меня зашевелилось и медленно поползло из области сердца всё выше и выше. И вот оно уже в голове. Потом снова в сердце. Поскольку из глубин памяти всплывают кадры из документального фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Впервые я посмотрел его по телевизору, будучи ещё подростком, года через два после выхода на экраны. А потом ещё и ещё раз, когда появлялась такая возможность. В новом времени я его относительно недавно пересмотрел в интернете… 1933 год, нацисты приходят к власти в Германии … Фюрер принимает парад… Сожженные в печах концлагерей… документальные свидетельства зверств нелюдей, архивные фотодокументы… Уничтожение миллионов людей… бомбардировки… пожарища… Нюрнбергский процесс… колонна пленных немцев на улицах Москвы, за которыми следуют поливальные машины и… вот эти марши…
Этот подонок, а теперь – отныне и навсегда я его считаю только таковым, недослушав до конца, включает следующий марш истинных арийцев, как мне показалось, сделав звук чуточку громче. Интересно, он собирается заниматься этой демонстрацией (лично для меня, в этом сомнений нет) до тех пор, пока я, опустив плечи, не выйду на своей станции? Сам он, судя по всему, скоро выходить не собирается.
«Станция «Китай-город». Платформа справа», – раздаётся из динамика. Народ выходит и заходит, но никто не обращает на нас внимания. «Нас» – это потому что и он, и я понимаем в чём проблема этой незапланированной совместной поездки. И мы продолжаем упорно смотреть друг другу в глаза, только он при этом улыбается, а я нет.
Потому что теперь мне вспомнился художественный фильм 1976 года «Горячий снег» по роману Юрия Бондарева. Как раз тот эпизод, где командир батареи лейтенант Дроздовский, которого играет Николай Ерёменко отдаёт приказ красноармейцу Сергуненкову (его роль исполняет Александр Ковалеров) «уничтожить гадину» – немецкую самоходку, пулемёт которой не даёт нашим бойцам поднять головы из окопа. И Сергуненков, обречённо взяв противотанковые гранаты, обращается к своему товарищу-ездовому напоследок: «А ты, Рубин, коней мучить будешь – на том свете найду…» Задачу он выполнить не смог, его срезает пулемётная очередь…
Тем временем со смартфона звучит очередной марш. Он знаком и мне, это «Тотенкопф» – марш третьей танковой дивизии СС «Мёртвая голова».
26 июня 1941 года мой дедушка, тридцати шести лет отроду, получил в военкомате винтовку и ушёл на фронт красноармейцем. Маленький, тихий служащий из Конотопа, которому «однажды прекрасным утром постучалась в окошко небольшая, казалось, война…», он очень пригодился там, на передовой, поскольку в совершенстве владел немецким языком. Дедушка начал свою войну в 1941-м и окончил 9 мая 1945-го, отвоевав (как я узнал из открытых архивов Министерства обороны в интернете) на Втором Украинском, Четвёртом Украинском, Воронежском и Запасном фронтах. Бог уберёг его, и он вернулся с орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги». И… он сделал ещё одно главное дело своей жизни. Моя бабушка и папа, которому тогда было девять лет, как члены семьи красноармейца, воюющего в действующей армии, получили право на эвакуацию из Конотопа, который в скором времени заняли фашисты.
«Следующая станция Пушкинская», – раздалось из динамика. – Осторожно, двери закрываются».
Мне показалось, что он сделал музыку ещё громче, наверное прочитал что-то новое в моём лице и теперь наслаждался эффектом и своей безнаказанностью. В самом деле, что ему может сделать лысеющий дядюшка – очкарик в нелепой кепке? Да ничего! А на любые слова у него, разумеется, заготовлен ответ. Поскольку он всего лишь безобидно слушает музыку, что не запрещено законом. И ему совершенно наплевать на то, что это кому-то может не понравиться. Кому не нравится, пусть не слушает. Или ездит на личной машине.
У меня, само собой, другой взгляд на ситуацию. Он сформировался ещё тогда, когда я услышал первые аккорды «Wenn die Soldaten ». И даже не взгляд, не мнение, а решение, которое по ходу движения трансформировалось в призыв к действию. Вот… и строки из Высоцкого вспомнились: «… Наши мёртвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые…».
Всё, пора. Если не сейчас, то никогда. Если не я, то никто. Родина-мать зовёт…
Я, намеренно изображая старичка, который не без труда приподнимается со своего места (отчасти так оно и есть) встаю, снимаю очки и вместе с книжкой укладываю в сумку. Надеваю перчатки. Кажется, что все эти действия тянутся медленно, как в замедленной проекции. На деле – всего десяток-другой секунд. Поезд уже начинает замедлять движение, приближаясь к станции «Пушкинская». Я делаю один шаг, но не в сторону дверей, а прямо к человеку, который слушает сам и заставляет слушать других фашистские марши… в моём метро. В моей Москве. В моей России.
И он ничего не успевает, поскольку расслаблен, самоуверен и самодоволен. Ничего опасного он не ожидает от дедушки, который может лишь кривиться, если ему что-нибудь не нравится. А зря. Поскольку если ты, парень, делаешь кому-то вызов, заявляешь о себе, то должен быть готовым ко всему. Рядом с любителем нацистской музыки стоит юноша в наушниках, с другой стороны дама, из уха которой тоже торчит, но беспроводной наушник, и она с кем-то ведёт торопливую беспрерывную беседу.
Я резко хватаю своего оппонента за белокурую шевелюру, чуть притягиваю к себе и, что есть сил, всаживаю правое колено в его лицо. Всё происходит молниеносно, пожилой мужчина, дремлющий рядом, даже не пошевелился. Удар вышел очень сильным, я попал где-то в область челюсти, и парень поплыл. Глаза закатились, помутнели, из носа закапала кровь.
Когда мне было шесть или семь лет, этому приёму научил меня папа. За последние пятьдесят лет я его не применил ни разу. Но вот, пригодился… Смартфон, выпавший из его рук валяется в проходе и молчит, очевидно сбились настройки. Поезд уже на «Пушкинской»
– Извините, товарищи, – обращаюсь я ко всем и ни к кому конкретно, – концерт окончен.
Мой враг всё ещё не очухался, что-то бессвязно бормочет, размазывая по лицу кровавую слизь. На меня с изумлением глядят студент и дама, поперхнувшаяся на полуслове, но они не в силах даже пошевелиться, поскольку всё произошло слишком быстро. А может быть, они испугались меня? Мало ли что…
Уже покидая вагон, предварительно, совершенно случайно наступив на смартфон, я услышал за спиной женский визг:
– Позвоните машинисту! Вызовите полицию! Тут страшная драка!
Крики раздаются тогда, когда пассажирская масса, сгрудившись на перроне «Пушкинской» уже ввалилась в вагон.
Сердце бешено колотится, норовит выскочить из груди, и, хотя за мной никто не гонится, я быстренько, насколько позволяют силы, взлетаю вверх по лестнице перехода на «Тверскую». Уже около эскалатора, я на всякий случай снимаю куртку, сворачивая её подкладкой наружу, и поворачиваю кепку козырьком назад. Это на тот случай, если по горячим следам будут ловить пожилого хулигана – нарушителя общественного порядка на Московском метрополитене имени В. И. Ленина.
г. Москва
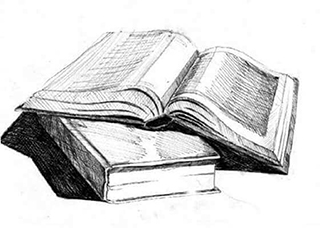
ОЛЬГА КАРАГОДИНА
РАЗГОВОР С МУЗЫКАНТОМ
Пошёл мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Олёна надвинула шапку по самые брови, стараясь быстрее дойти до студии звукозаписи, где её ждали музыканты. Она должна спеть весеннюю песню «Вечно юный май». Последнюю, решила она. Сегодня Олёна скажет ребятам, что больше не будет записываться: обстоятельства изменились. Но самое плохое… пропало желание заниматься творчеством.
Началась метель. В мгновение тёмное небо смешалось со снежным морем. Ветер завыл с такой свирепой силой, что, казалось, сейчас сдует девушку на проезжую часть, и она зашагала ещё быстрее, почти побежала.
Алексей и Евгений уже всё приготовили: включили аппаратуру, поставили микрофон, присоединили к нему наушники, рядом расположили пюпитр. Олёна всегда ставит перед собой текст, боясь ошибиться. Дверь распахнулась. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся женщина ворвалась в студию как ураган.
— Привет! Не опоздала? Там такая метель… чуть не улетела в небо, как Мэри Поппинс, — стягивая шапку и куртку заговорила Олёна. — Начинаем? Одеваю наушники!
В соседней комнате за широким окном включил аппаратуру Евгений. За микрофонами, рядом с Олёной, с ноутбуком, подключённым к микрофону расположился Алексей. Они с Евгением одновременно вели дублирующую запись.
Олёна запела.
Алексею нравилось с ней работать. Она всегда старалась учитывать все высказанные ей пожелания, много трудилась. Вот и сейчас, несмотря на то, что только что вошла с улицы, без разминки правильно взяла первые же ноты. Алексей махнул рукой Жене: «Начали!». Олёну записывали сразу — у неё бывали самыми лучшими именно первые дубли.
Олёна закончила петь, посмотрела на Алексея.
— Ещё раз?
— Да. Обязательно! Но и первая попытка очень даже на уровне. В последнее время ты поёшь всё лучше и лучше. Драйв есть.
Опустив глаза, Олёна тихо сказала:
— Сегодня я пою в последний раз.
— Почему? — вскинул серые глаза Алексей. — Что случилось? Я подготовил отличную аранжировку. Остаётся только вложить как можно больше души в песню. С нотами сегодня всё в порядке, где ошибёшься, исправлю, но душу… Душу в песню может вложить только исполнитель! Песня будет жить, если в ней сохранится энергетика голоса. Это тонкие вещи, но они работают. Ты можешь и умеешь! Начали!
Олёна спела с десяток дублей. На последнем начал срываться голос. Устала. Алексей выключил аппаратуру.
— Давай поговорим. У тебя в проекте ещё десять песен. Что будем с ними делать?
— Отложи их подальше, — буркнула девушка. — У меня сложная ситуация: полтора месяца назад умерла мама, я просто не говорила, держалась. Сейчас смертельно болен отчим: у него рак. Вдобавок ко всему мне нужно мотаться по нотариусам и прочим организациям, оформляя наследство. На даче в морозы лопнули все батареи, вырвало трубу с холодной водой. Я была совсем одна, и если бы не сосед… Я даже не могла сообразить, где перекрыть воду, ведь этим всегда занимался отчим. У дочери тоже проблемы: ей нужна большая сумма денег, и мне пришлось их занять, но главное, я не хочу больше петь. Всё равно в топ-десять никогда не попаду.
— Нельзя так говорить, — посерьёзнел Алексей. — Всегда нужно думать. В первую очередь, думать. И говорить себе: «Я попаду в топ! Я буду много работать и добьюсь результатов. Мне нужно идти дальше» Понимаешь? Отбросить всё, что на тебя навалилось и идти дальше. Если ты будешь тянуть за собой прошлое, оно завертит тебя, остановит на месте, ты потеряешь много времени и ничего не приобретёшь. Всегда нужно идти вперёд. Да. Есть вещи, которые трудно перешагнуть, но их всё равно нужно перешагивать. Вселенная помогает. Всем помогает и всех любит. Если человек идёт по жизни с открытой душой, ему будет приходить помощь, вот как с твоим соседом. Ты думаешь, он случайно к тебе зашёл? Ничего случайного в этой жизни нет. Все мы сгустки энергии и взаимодействуем между собой.
— Вселенная? — удивилась Олёна? — Я думала Бог…. Но я, к сожалению, не верю в Бога. Не крещёная. И муж не крещёный, а дочка покрестилась сама, так захотела.
— Это неважно, крещёная ты или нет. Вселенная, можешь называть её Богом или ещё как, помогает каждому. Всё, что ей нужно взамен — это наша любовь. Только любовь спасает. Любовь и счастье. Человек должен любить всё и всех вокруг себя, быть счастливым, совершать добрые поступки и трудиться. Тогда ему помогают высшие силы. И, в первую очередь, за поступки, хотя и мысли материальны, и сказанные, случайно вылетевшие слова — тоже. А это значит, нужно стараться следить и за мыслями, и за словами.
— Но не все люди такие добрые и любящие. На свете так много злых! Почему разбился самолёт, в котором летела Елизавета Глинка. Она так много добра делала людям, стольких спасла… Бог забирает лучших? Почему? Она могла бы ещё многих спасти!
— Значит, она завершила свой путь, и ей лучше было уйти. Сейчас — в цвете лет и сил, на пике того, что сделала. Остаться в памяти людей на этом пике, а не умирать годами в постели, как происходит со многими. Возможно, это очень хорошо для неё. Возможно, с ней могло случиться что и похуже, например, попасть в зону боевых действий и остаться калекой. Считай, она перешла на новый уровень.
— А почему долго живут злые люди? Я некоторое время знала одного наркомана. Он долго сидел в тюрьме, потом вышел, устроился на работу, продолжает принимать наркотики, торговать ими. Рассказал ужасный случай. Он фактически убил своего товарища, передав тому в тюрьму некачественные наркотики, и тот умер от передозировки. Он сам сказал мне однажды: «Не знаю, почему я до сих пор жив. Я стольких людей убил…» Он понимает, что убивает наркотиками людей, а сам живёт.
— И злые тоже нужны: они уравновешивают наш мир.
Олёна предположила:
— Их руками Вселенная убирает таких же злых и никчёмных, как они сами?
— Что-то в этом роде, — не стал отрицать Алексей. — Ничто не происходит просто так. Всё имеет причину и следствие. Все люди, с которыми мы сталкиваемся по жизни, нужны нам, а мы им. Мы сходимся в нужное время в одной точке, и связаны каким-то образом с событиями, которые с нами произойдут.
— Однажды я позвонила подруге… — вспомнила Олёна. — Она плакала от того, что с ней произошло. Я стала её успокаивать и сказала тогда: «Нет событий плохих или хороших. Есть событие. Оно произошло и всё. На него можно смотреть с разных точек зрения. Можно плакать, как ты сейчас. А можно увидеть, что оно полезно и даже хорошо, что произошло, потому что привело тебя к чему-то новому». Подруга согласилась и даже успокоилась. А недавно плакала я, и она позвонила, напомнив мне мои же слова. Но у меня успокоиться не вышло, теперь пью успокоительные.
— Таблетки выбрось! Немедленно! — мягко велел Алексей: — Они не помогут. Помочь себе может только сам человек. Проси у Вселенной. Проси, что хочешь. Ничего невозможного в мире нет, только просить нужно искренне, верить в то, что это сбудется. И тогда оно точно сбудется. И старайся, по возможности, находиться в комфортных местах и общаться с комфортными людьми. Верь им! И никогда никого не вини. Сейчас мы запишем ещё несколько дублей. Ты уйдёшь, но мы с Женькой будем тебя ждать. Впереди много работы и много хороших песен. Ты сможешь преодолеть всё, ты умеешь и знаешь, как.
Олёна вышла из студии, с удивлением поймав себя на мысли, что ей стало легче. Её уже не так страшили заботы, навалившиеся огромным тяжким грузом. Захотелось зайти в кафе, взять чашечку горячего ароматного кофе, сесть у окошка и просто смотреть на прохожих. Как в детстве. Рассматривать картинки.
Метель улеглась.
Показалось январское солнышко.
Олёна вошла в маленькое кафе.
— Чашечку чёрного кофе, пожалуйста, — попросила она, улыбнувшись официанту.
Он улыбнулся ей в ответ.
г. Москва
АЛЕКСЕЙ ЯШИН
ГЛОБАЛЬНОЕ РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ И ЛИТЕРАТУРА
Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса – разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать.
Ф.М. Достоевский «Бесы»
Из двух, всего лишь имевших место быть в человеческой истории, гениальных социально-нравственных писателей, а именно Шекспира и Достоевского, безусловным, что называется до испуганной дрожи души, в каждом новом поколении убеждающейся в высказанной им истине, провидцем был и остается Федор Михайлович. Таковое выделение не обидно, например, для Льва Толстого, Гёте и Томаса Манна – великих человековедов в своем творчестве. Здесь верно определил различие творчества двух русских величайших писателей в своем трактате «Л. Толстой и Достоевский» проницательнейший Д.С. Мережковский, обозначив первого как исследователя телесного поведения человека, а вот прерогативу познавателя души отдав Достоевскому.
… Еще далеко было до озвучивания нынешних понятий расчеловечивания, человейника, глобализации с ее умозамещением и цифрофренией*, а Достоевский в «Бесах» представил миру Шигалева с его же «шигалевщиной», сущность которой Достоевский изобразил в нескольких строках – см. выше эпиграф, – и которая, спустя полторы сотни лет оказалась точнейшим, в масштабе М1:1, как ставят на инженерных чертежах, слепком наших безрадостных будней… равно и официально-постановочных празднеств. Отметим сразу, что пишем о всемирном человейнике, ибо в эпоху торжествующего глобализма выделять какую-либо «отдельно взятую» социумность или государственность суть сужающая тематику эмфаза**.
Определение, точнее гениальное предвидение, Достоевским расчеловечивания, как потери личности и обращения в стадо, сбывающееся сейчас в невероятном ускорении, многократно превышающем обычно соотносимое с временными показателями человеческой, социальной эволюции (человек обогнал свою эволюцию – по Конраду Лоренцу), происходит сейчас – в терминах обезличивания и превращения человека в кроходный винтик глобальной машины Молоха глобализации – родного брата Великого инквизитора из «Братьев Карамазовых», а еще точнее – в биологический придаток кликовых недолайкиных к мировым телекоммуникационным сетям. Это все настолько самоочевидно – оглянитесь вокруг, не забыв и на свое отражение в зеркале посмотреть! – что не стоит лишний раз бередить раны человека-читающегося, еще как-то сопротивляющегося, хотя бы в мыслях своих, натиску волны, девятого вала расчеловечивания. Мы же вовсе не «от лукавого» бередим эти раны. Просто это тема наших научных, естественно-философских, системных исследований***. Упоминаем это «не корысти для», как говорил известный персонаж дилогии одесских классиков, «но токмо» для констатации того факта, что выходящее из-под нашего пера (действительно, пишу только «от руки») не есть порядком поднадоевшее нашему читателю – неужто и таковые еще остались? – нытье по уходящей в историю некогда великой русской и советской литературе и уже давно ушедшей туда западно-восточной художественной словесности, но без каких-либо личностных эмоций признание де-факто наступившей постлитературной эпохи. Это как данное американо-японским философом Фукуямой определение нашего времени: постисторический период цивилизации.
Как говорится, с логикой в уме и тревогой в душе будем воспринимать происходящее неким status quo неумолимой социальной эволюции человечества, переходящего в статус человейника. Словом, «ума холодных наблюдений».
От вводного философствования переходим к литературе времен глобального расчеловечивания.
♦ Литература по определению не является исключением исключением в части действия законов социальной эволюции человека. А в рамках таковых глобализация, как первоначальный, зато самый бесчеловечный, жестокий этап более общего процесса перехода Земли в новую биогеохимическую оболочку (по акад. В.И. Вернадскому, создателю учения о ноосфере) – ноосферу, дает следующее целеуказание всем художественным творчествам: (а) в отношении «одной десятой доли» у Достоевского, а по-нынешнему «золотого миллиарда», девиз Древнего Рима: вино, женщины и искусства принадлежат избранным (в наших пенатах см. цены на билеты в Большой театр…); (б) для «остальных девяти десятых» только примитивнейший суррогат таковых художественных творчеств, где-то по значимости после торговли (в тех же пенатах усеявшие города «торгово-развлекательные центры»); (в) суррогат направленно продуман и выверен, несмотря на внешний примитивизм, а именно, сочетает в себе информационный шум, психолингвистическое и прочее «психо» (музыка, литература, пластические искусства, живопись, все сценические действия) зомбо-программирование; (г) для литературы и других словесных творчеств – полное преобладание (у авторов и потребителей) утилитарного цифрового мышления (цифрофрения) над аналоговым творческим. Варианты и разветвления указанных целеуказаний читатель найдет в развернутом виде в ЖМФН.
Итак, названные целеуказания не есть пресловутые «происки империализма», «руководящие указания партии и правительства», «оскалы» всевозможных «измов». Это есть эволюционный закон, не кем-то придуманный, но отображением Мироздания. И если нам выпало сомнительное удовольствие попасть в генеалогической цепи поколений в уникально жестокий и бесчеловечный, умозамещающий период глобализации, то остается только вспомнить юридическую формулу о жестокости закона, но – закона!
Другое дело, опять же обращаясь к образной логике римского права, что herba mala cito crescit – дурная трава быстро растет, то есть человек с охотой великой скатывается в примитивизм, ибо по природе своей он великий хитрец, а лень ему мать родная. Та же самая феногенотипическая лень (Ильи Муромца до тридцати годов…) одинаково подвигает человека к творческой деятельности, см. присказку о лени как матери изобретений, и к духовному отуплению и инерции жизни – тоже Илья, но Обломов. И совсем другое дело, если скатывание в умозамещающий примитивизм директивно, целеуказуемо направляется мировой социальной эволюцией.
Целеуказание (а) уже пояснено «билетом в Большой» (это не о сторублевке в исполнении Стоянова), но в нашей стране, сравнительно – по историческим меркам – недавно пришедшей в постсоветские годы к реставрации атавизма частнособственничества, да и учитывая историческую русскую общинность, наблюдается еще некоторое колебание в раскладе на 1/10 и 9/10. Но ведь директивно-то спешим, «задрав штаны», за Европой, при этом не уставая ее поругивать. Бегом, бегом все умозамещающее от нее, надменной, в себя вобрать! Отсюда и конфузы торопливости, как черт в бреду Ивана Карамазова говорит: «То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений – один только вред!» А великолепный публицист, он же ленинский Иудушка, Троцкий вторит Ф.М. Достоевскому: «Мы пришли слишком поздно и потому осуждены проходить историю по сокращенному европейскому учебнику».
… И еще существенный момент: в отличии от европ и америк, наш олигархический минимиллиард, но с полновесными миллиардами в долла́рах, поспешая «задрав штаны», пока что не дошел до избранничества в творчествах художественных; винище из осторжности не пьет, чтобы не потерять бдительность начального накопления капитала; правда, еще лет десять назад, до устрожения нравственности, радовали нас на телеэкранах репортажами о поездках в Куршавель «властителей душ» с вагоном девок: наши красивые и дешевые, а западные – тощие кобылы и алчные… Но – время идет неумолимо вперед. Может и изящные искусства избранным воспотребуются; даже – в старшном сне такое не увидишь – возжелает нефтяной или алюминиевый «олигархер» на досуге полистать книжку запиаренного сочинителя. Так что будьте «на товсь», грядущие Сенеки, Цицероны и Овидии… нет-нет, с Овидием мы хватили лишку, можно будет подпасть под образцово-показательную кампанию борьбы с аморалкой и быть сосланным куда следует: «… В Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей».
Про целеуказание (б) мы также выше кратко высказались. Тем более, в части литературы о таковом ниже будет достаточно сказано; аналогично и о (г). Классическим примером довлеющего воплощения (в) является популярная, то есть эстрадная, музыка. Но не «отстает» от нее и музыка, по традиции называемая «серьезной». Этот пример намного характернее той же литературы и живописи, тем более он сейчас, что называется, на слуху – извиняемся за смысловую тавтологию… Но общий принцип расчеловечивания – будем ниже избегать специальной психологической и иной терминологии – одинаков для всех искусств.
Отличительную от всех других видов художественных воплощений особенность музыки давно, но очень точно определил Артур Шопенгауэр в своем основном произведении «Мир как воля и представление». Позволим себе процитировать (последний раздел третьей книги названного трактата) Шопенгауэра в его определении сущности музыки: «Музыка – это непосредственная объективизация и отпечаток всей воли, подобно самому миру, подобно идеям, умноженное проявление которых составляет мир отдельных вещей. Музыка, следовательно, в противоположность другим искусствам, вовсе не отпечаток идей, а отпечаток самой воли, объективностью, которой служат и идеи; вот почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия других искусств; ведь последние говорят только о тени, она же – о существе… Она раскрывает интимную историю воли, живописует всякое побуждение, всякое стремление, всякое движение ее, все то, что разум объединяет под широким и отрицательным понятием чувства и чего он не в силах уже воспринять в свои абстракции. Поэтому всегда и говорили, что музыка – язык чувства и страсти, как слова – язык разума».
Именно в силу такой специфики музыки, ее единичности в сфере искусств, главное – непосредственного воздействия «сущности» на органы чувств человека (ухо воспринимает мелодику, а кожный покров и биофизиомасса мозга – ритмику), заключается все коварство исполнения целеуказания на зомбо-программирование человека, уготовляемого к качеству носителя умозамещения и цифрофрении – неотъемлемых качеств винтика машины Молоха глобализации.
… Не следует наивно полагать, что глобализация взяла да спрыгнула на наши головы где-то на рубеже 1990–2000 гг. В эволюции всегда наличествует предтеча; как в армейском наступлении артподготовка. Объективно рассуждая, можно сказать: эволюция запроектировала современного человека еще три миллиарда лет назад, создавая еще предживого (сложная молекула в оболочке – капсиде) вируса с его ДНК… Так и в части замбо-программировании человека посредством музыки.
В начале прошлого века теоретик музыки Арнольд Шёнберг предложил новый строй музыкальной композиции (и исполнения), а именно так называемую двенадцатитоновую систему. Кстати, в своем выдающемся романе «Доктор Фаустуа» Томас Манн, хотя бы он и имел в виду судьбу и философию Ницше, «облек» главного героя по житейской атрибутике в «одежды» Шёнберга с его музыкальной новацией.
Некоторое время спустя, но в том же двадцатом веке, Теодор Адорно из Англии, чье имя очень известно во многих кругах, что называется, от искусства до философии, развил двенадцатитоновую музыкальную концепцию Шёнберга, но уже в практических целях заложив в нее (зомбирующее) управление сознанием человека слушающего. Это и была предтеча мирового зомбирования – расчеловечивания посредством музыкальных масс-психозов. Далее идет известная легенда, но очень похожая на действительность и уж тем более похожая, что результат-то был получен ошеломляющий! Суть же были – легенды, несколько лет назад «попавшей в лапы» жадным до сенсаций западным СМИ и растиражированной ими на весь мир, состоит в следующем.
В самом начале 1960-х годов британская разведка МИ-6, выполняя явно заказ тогда еще тайных мировых сил, готовивших предтечу глобализации, поручила Теодору Адорно разработать спецпроект – ни много ни мало – по музыкальному зомбированию больших масс, преимущественно молодежных, с использованием возможностей двенадцатитонового строя. Теория у Адорно уже готова была, а для практического опробывания то ли специально была создана (на деньги-фунты МИ-6) в 1963-м году, или просто веселые парни из Ливерпуля подвернулись под руку … словом, появился «Битлз», который за считанные годы разрушил всю массовую музыку прежнего классического строя, с честью выполнив задачу апробации зомбирования широчайших масс. Как всякое пробное начало, ливерпульская четверка недолго и просуществовала. Выполнив свою задачу, получив из рук королевы рыцарские кресты (по представлению МИ-6?), в семидесятом году ребята-«жучки» разбежались уже поодиночке собирать дивиденты. И папа Адорно годом ранее почил … по своей ли воле-судьбе? Разведчики во все времена следов не оставляют. Додекакофония – ироничное название двенадцатитоновой системы.
Здесь даже истовый меломан забурчит в наш адрес: но где обещанная литература? А вот и она.
• Лично я уже в годы «битломании» ни в малейшей степени не сомневался (далеко еще было до легенды-были в СМИ) в разрушительном начале новых эстрадных веяний. А вот литература тогда, особенно советская, даже и не помышляла о сдаче позиций. Ленинские и Государственные премии в СССР, Гонкуровские во Франции, тем более Нобелевские , вручались писателям с устойчивой известностью – не только в своей стране.
Советский Союз подлинно, без самохвальной рекламы, являлся самой читающей в мире страной. Более того, дело даже не в сравнении с иными царствами-государствами, просто в СССР читали все: от «столиц и университетских центров» до зыбучих песков и барханов среднеазиатских окраин, жителей которых еще не столь давно дети лейтенанта Шмидта – из тех же одесских классиков – полагали неграмотными… На этом фоне самыми читающими были инженеры, особенно молодые. А сословие это в советской стране, во-первых, являлось многомиллионным; во-вторых и в главных, тогдашняя инженерная служба представляла собой некий симбиоз полезной занятости и клубного времяпрепровождения: легкий флирт, умеренное потребление того самого по поводам и без, хохот анекдотов про «руководителей партии и правительства» в переполненных курилках… тогда с потребителями травки никотианы никому бы в голову не пришло сражаться, ибо сам Ильич Второй еще баловался «Новостью» за восемнадцать копеек пачка; впрочем, тема курения сейчас официально не приветствуется. Но это к слову, а именно к тому, что служебно-клубная обстановка, когда вовсе не эвфемизмом понималась присказка: «Утром на работу с удовольствием, вечером домой с радостью», – непременно включала обмен мнениями и суждениями о прочитанных новинках литературы: книгах и художественных журналах – от «Юности» до «Нового мира».
… В первый год моей инженерной службы из рук в руки, с «записью в очередь», переходила только что изданная «Алхимия слова» Яна Парандовского – с предисловием аж самого Сергея Залыгина, что из числа наиболее читаемых тогда писателей. Заметим, что несколько позже по рукам заходили «Законы Паркинсона» – книга названа по имени автора, – но это несколько иное.
Ян же Парандовский посвятил «Алхимию слова» тому, что сам назвал «лабораторией литературы». В понятийной, зачастую остроумной, для самой широкой читательской аудитории, высокохудожественной форме автор вводит в святую святых творца словесного искусства. А «что там за кулисами?» – всегда занимательно для находящегося в зале. Но одно дело нынешние ТВ-спектакли, адресованные самому низменному инстинкту обывателя, в каковых (спектаклях) некогда кумиры этих самых залов кино- и просто театров, вытряхивают свои старческие кальсоны, брюзжа на молоденьких содержанок, обобравших до нитки артпапиков, совсем другое – творческая лаборатория писателя не так уж и далеких от нас времен. С устоявшимися традициями самого творчества, их глубинным содержанием и внешним антуражем.
… Пространное «силлабо-лирическое» отступление к тому, что с античных времен и до недавнего оцифровывания и умозамещения литературное творчество являло собой профессию, хотя бы, согласно табели о рангах, в послужном списке писателя и стояло: камер-юнкер или камергер, дипломат, путешественник на фрегате «Паллада», а потом главный цензор Российской империи, помещик, разночинец, чиновник не выше коллежского асессора, исключая статских генералов Г.Р. Державина и М.Е. Салтыкова-Щедрина… И так далее. Даже в советское время, когда писательство являлось профессией де-факто, но де-юре в соответствующих реестрах не обозначалось: пенсия по каким-то косвенным статьям оформлялась.
Нынешний же безлошадный сочинитель, уже и забывший этимологию слова «гонорар», только что может горестно повторять слова капитана Лебядкина из «Бесов»: «Если бога нет, то какой же я после того капитан?»
Завершая краткий ностальгический экскурс в безвозвратно ушедшее доцифровое время, в сонетной манере свяжем окончание с началом, а именно скажем еще несколько слов об образцово-показательном сведении музыки к средству эффективного зомбирования. Как «битломания» разрушила мелодику популярной, эстрадной музыки, сведя ее в итоге к преобладанию ритма, то есть кодирующей сознание цифры, так в течении первых двух третей прошлого века и так называемую серьезную музыку, симфоническую, оперную, балетную, оркестрово-концертную и пр., оцифровали в указанном выше смысле и назначении. Если девизом нынешних – на подхвате, подголоске и подтанцовке у Великого глобализатора – СМИ является рекламный девиз «Вместо слова цифра», то (опять вспомним афористику все тех же одесских классиков) для современной, бывшей «серьезной» мелодичной музыки характерен зомбо-запрограммированный ритм «негрских плясок у истоков Замбези». Таковой облик современной «классики» в отечественном варианте можно, хотя и осторожно, в качестве истоковых, усмотреть у Игоря Стравинского и Александра Мосолова, далее Шостаковича и, конечно же, у Шнитке. Уже особо и не останавливаемся на «Симфонии гудков» Арсения Авраамова (это псевдоним; сам он был сыном донского казачьего генерала…). Этот оригинальный русский композитор по праву считается мировой предтечей зомбо-музыки. Однако – опять к литературе.
• Потеря профессиональности, упразднения лаборатории литературы и понятия творческого авторитета – таковой, воочию наблюдаемый процесс, уложился по времени в неполные три десятка лет. Темпы, конечно, космические – в сравнении с двумя с половиною столетиями возникновения, становления и расцвета отечественной словесности. Но ведь и сама социальная эволюция в период глобализации неимоверно ускоряется – говоря ученым языком: переходит на возрастающую экспоненту, – семимильными шагами убегая от традиционной духовности и творческой художественности в суконно-цинковую оцифрованную среду прозябания и невостребованности.
Литераторы, особенно поэты, как натуры восторженно-нервические, суть сугубые индивидуалисты. Это ни в коем случае не порок, но специфика творческого человека, в своем мышлении субъективирующего весь отражаемый в сознании мир объектов и процессов. Поэтому неуклонный рост их профессионализма во многом, если не в основном, стимулируется тем развитым в них качеством, которое вольно поименовать равнением на мастера – это для трибунного красного словца. В душе же своей, или в узком кругу доверенных лиц, – творческой завистью. Таким образом, естественное выделение из среды писателей мастеров слова, то есть авторитетов, есть процесс позитивный, движитель постоянного литературного процесса. Опять же литератор, даже все тот же вдохновенный, знающий себе (порой) завышенную цену поэт («Я, гений Игорь Северянин…»), есть натура совершенно реалистическая. А «в реалисте, – говорит персонаж «Братьев Карамазовых», – вера не от чуда рождается, а чудо от веры». То есть устремление в совершенствовании своего творческого потенциала с равнением на признанных авторитетов и есть та вера в свои способности и усердие на сочинительском поприще, которая в итоге и может сотворить творческое чудо: и сам писатель «воссияет на скрижалях» (Леонид Ильич, сам уже с пятью геройскими звездами на пиджаке, вручит лауреатскую медаль), и число читателей зашкалит за десяток-другой миллионов. Главное, душа художественного сочинителя возрадуется одновременно горделиво и самоуспокоенно… Так и было в столь недавнюю пору признания авторитетов: именно мастеров-авторитетов, вовсе не «литературных генералов».
Все прошло как сладостный сон. Исчезло само понятие авторитета в литературе, которое даже близко не заменит термин «пиарщик в оной же». Это все из различных опер… и оперетт. Правозглашенный Великой французской революцией 1789-го года лозунг, взятый у масонов,– liberte, egalite, fraternite, – в части egalite – равенства следует воспринимать с осторожностью. Равенство трехсот миллионов жителей СССР в правах и обязанностях – это мировая вершина социальной справедливости. Общемировая практика римского права в части равенства перед законом – тоже справедливо… если, конечно, таковое равенство на практике исполняется. Но говорить о поголовном творческом равенстве людей есть абсурд и предельное лицемерие. Да, Декларация прав с трибуны ООН (кажется, с американской конституции списанная?) о том, что все люди появляются на свет равными, возражений не вызывает. Но вот творческий заряд в этих людях усреднению не поддается – это как средняя температура по больнице… Творчество есть категория персонифицированная!
…Кстати, раз упомянули об Америке… Северной, конечно, что между Канадой и Мексикой, то в этой мировой вершине прагматизма и утилитаризма сложилось уникальное равенство, о сущности которого, правда, безотносительно к Америке, писал в «Подростке» Ф.М. Достоевский: «Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство, и в этом вся главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства».
То есть деньги не источник равенства, но средства его достижения. Причем таковое, денежное равенство есть нивелирование, усреднение человека в социуме. И с наступлением эпохи глобализации практика такого усреднения от сугубо экономической была распространена на все сферы социума, литературу и все остальные искусства-художества тож.
А Лев Николаевич Толстой с намного большей, нежели Достоевский, категоричностью исторически видел таковое нивелирование ума людей в … изобретении книгопечатания ювелиром из Майнца Иоганном Генсфляйшем Гутенбергом (!) Уже упоминавшийся выше другой Лев, но только Давидович, то есть Троцкий, «умягчил» резонно высказывание классика: «Толстой когда-то сказал, что изобретение книгопечатания создало самое могущественное орудие распространения невежества. Невежество – это, пожалуй, слишком сурово, но дилетантизма – это несомненно» («Литература и революция», 1923).
Еще раз повторимся: в эволюции вообще, в социальной тем более, все изначально запрограммировано. Всякое новое социальное явление в истории цивилизации и культуры изначально позитивно, прогрессивно для развития человека разумного и всего человечества в целом. Но все эти новации, возникающие в течении социальной эволюции, в итоге и одновременно достигли своего апогея ко времени биосферно-ноосферного перехода, когда человек разумный биологический, увы, выполнил определенную ему эволюцией задачу высшего развития, то есть достиг предела совершенствования индивидуального мышления. Дальше той же эволюцией предопределен (см. ЖМФН) переход к доминированию коллективного разума, то есть преобладания биотехнического симбиоза информационной виртуальной реальности, предтечей которой являются нынешние глобальные телекоммуникационные сети (интернет), а индивидуальный человек стремительно, буквально на глазах, становится их придатком-пользователем.
Это все к тому сказано – возвращаясь к нашей тематике, – что Лев Николаевич (с поправкой Льва Давидовича) обличал не собственно архиполезное для человечества изобретение Гуттенберга, но уже в годы его жизни имевшее место быть профанирующее качество доступности к печатному слову. Как читающего, так – и особенно! – пишущего. Но таковая профанация, дилетантизм в наше время полной доступности к печатанию, оргтехники его подготовки и дешевизны – в небольшом числе экземпляров – мощно способствовали потере профессионализма, утрате творческих авторитетов, упразднению понятия и содержания «творческой лаборатории». Опять же все это на виду и на слуху, особого пояснения не требует.
… Сейчас с самых высоких мировых трибун человечество, напуганное стремительным глобальным натиском цифрофрении, уверяют, что напрасны опасения в части самой скорой передачи всех трудовых функций человека роботизированным механизмам. Дескать, эти системные автоматы будут выполнять всю рутинную и тяжелую работы, а освобожденное от забот о хлебе насущном человечество все целиком отдастся творчеству. Но ведь таковое утверждение (см. выше) уже не только средняя температура по больнице, но еще и усредненное артериальное давление! Словом, в современном духе препарируя слова из оперы: не счесть талантов пламенных в неоне джунглей каменных.
• Параллельно с потерей писательского профессионализма и понятия творческого авторитета, но в общем-то независимо от этого, произошла и утрата массового читателя. И вовсе не потому, что таковой в един миг поглупел с натиском глобализма. А если и поглупел отчасти, то с него и взятки гладки. Опять же Федор Михайлович в своих статьях о русской литературе, 1861 г. не в бровь, но в глаз сказал: «Дурак-то именно и не должен бы был краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком…» Это все одно, как бы и великий талант полагал себя обиженным матерью-природой, что сотворила его не мирным бюргером и любителем баварского пива, но обрекла на каторжный пожизненный творческий труд до умоисступления, причем сугубо «за интерес», а не за звонкую монету! – Та же палка, да с другого конца… Теория относительности словом. И уж совсем категоричен Чехов, утверждая, что дело не в оптимизме или пессимизме, но в том, что у 99 людей из 100 вовсе нет ума. Что-то в этом роде сказал.
Итак, мы не об умных и дураках ведем речь, но об утрате массового читателя в наступившую эпоху не в зависимости от степени совершенства или несовершенства устроения правого и левого полушарий головного мозга индивидуума, отвечающих, соответственно за образную художественность и логику мышления, но о явлении системном, социально-эволюционно обусловленном. А таковое всегда обусловлено категорическим императивом действенности философской категории причинности. Иной скептик возразит: причем здесь причинность? читал себе человек, грамоте обученный, в свое удовольствие в свободное от трудовых и иных подвигов время и чего бы ему не продолжать набираться ума-разума и всяких романтических чувствований вне зависимости от «погоды на дворе»? Да, пусть глобализация за окном и на экране телеящика набирает обороты, свирепствует цифрофрения и умозамещение, но мне-то что до всего этого? Лежу на диванчике и почитываю, благо и писатели еще пописывают…
Ан нет, отвечаем скептику, от причины не отмахнешься. Это не телеящик с волнующей программой «В гостях у цифры», что можно, сопроводив легким матерком, выключить, а порыв гнева погасить на кухне стопкой «очищенной». Ибо причина – задатчик любого социального процесса. Ту же глобализацию вовсе не в Белом доме (который настоящий, г. Вашингтон, федеральный округ Колумбия) придумали и не в «совете нечестивых» – предполагаемом Тайном мировом правительстве. Оные только исполнители категорического императива причинности. Последняя же суть развертывание матрицы некоего фундаментального кода Мироздания (см. ЖМФН) – в данном случае в движении социальной эволюции человека. Причинностью обусловлено и явление глобализма, как высшей и завершающей стадии империализма (Это как у В.И. Ленина сам империализм есть высшая стадия капитализма…), относительно короткой в эволюционном масштабе – по разным оценкам 80…200 лет, – после окончания которой человечество приобретет «полный статус» человейника – всемирного общества полного (социального, экономического, умственного, творческого и пр.) равенства. То есть прогноз Маркса о всеземном коммунизме и акад. В.И. Вернадского о ноосфере в таком же ключе через век-другой сбудутся… только равенство это окажется равенством гаек-шестеренок, придатков телекоммуникационных сетей глобальной виртуальной реальности.
А затем и вовсе завершится отведенная эволюцией роль человека биологического… Но – это-то нескоро еще. И не следует сейчас оплакивать грядущего робота в человейнике. Человек – самое адаптивное животное в биоэволюции. Ведь только два-три десятка лет мы в объятиях глобализации; умозамещения и цифрофрении тож. А разве чувствуют свое ущемление средние, тем более младшие поколения, уже обретшие качество недолайкиных? – Отнюдь нет. И старшие поколения скорее лишь по традиции бурчат, но и то о низкой пенсии; мол, небольшая, но хорошая…
Все сказанное в пространном отступлении преследует цель: пояснить роль причинности, то есть не случайности, утраты писателем своего читателя.
• Но куда же он делся – наш бывший читатель? Тем более у нас в отечестве, повторимся, еще не столь давно воистину, не для пропагандистского словца, бывшем самой читающей страной в мире? Оглядитесь округ себя и узрите людей новой формации: Кэшбэка Кэшбэковича Онлайнюка, Нанотана Постеровича Цыфринского, Катцапа Апплиевича Вайнберга и самого Фейсбука Кликовича Недолайкина. – Все сплошь ваши вежливые соседи, сослуживцы, телесериальные «говорящие головы» и пр. и пр., увешанные китайской выделки гэджиками, сам-один разговаривающие при уличной ходьбе. Перенесись на машине времени в наши дни человек из не столь уж далекой эпохи «пятнистого консенсуса», так первая мысль его будет: наверное, в Кащенке проводят – в духе либеральных реформ – день открытых на выход дверей!
…Правильно, уважаемый читатель, мыслите. Но, к сожалению, не в корень зрите. Интернет, гэджики, цифрофрения во всем и всея (а у нас, как то принято, в рамках кампании, «месячников» и пр. – со смехоподобным перехлестом) – это вовсе не замена чтению художественной литературы, как неуклюже силятся внушить народу масс-медиа, но сугубые технические средства расчеловечивания грядущего робота Молоха глобализации, достижения уже упомянутой выше главной цели: перехода в индивидуальном и коллективном разуме от творческого аналогового мышления к утилитарному цифровому. Последнее уже принято называть компьютерным мышлением. Вот в этом-то и зримый корень того явления, что связываем с утратой <литературного> читателя. А который (их все меньше и меньше…) еще остается, то все чаще с уровнем восприятия писаний Ратазяева из «Бедных людей» Достоевского: «– Владимир!.. – шептала в упоении графиня. Грудь ее вздымалась, щеки ее багровели, очи горели… Новый, ужасный брак был совершен! … Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей. – А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить? – сказал он, потрепав жену по щеке».*
Опять же всякие ссылки на заботы современного (отечественного в особенности) человека по добывания хлеба насущного – кручусь, мол, от зари до зари! – тем более с маслом и икрой, совершенно неубедительны. Этот самый хлеб в истории страны никому даром не давался. Но все же при свечах читали, в окопах, после трудового дня. Время на чтение всегда найдется, если есть побуждение к этому. Но свершившийся уже буквально прямо на глазах переход среднестатического человека – не без директивного довления телеэкрана и гэджиков – в категорию адептов компьютерного мышления поставил жирную точку: баста, книги читать – не дензнаки считать! Книги – на помойку, глаза – на экраны! Выстраивается цепочка запрограммированной подготовки тружеников-роботов периода глобализации: человек читающий «подключение» его к телекоммуникационным сетям (интернет) «загрузка» гэджиками цифрофрения отказ от чтения какой-либо литературы справочный <через интернет> характер памяти умозамещение справочный характер мышления компьютерное мышление. Как следствие – не то что отсутствие позывов к чтению, но и непонимание такого рода занятий. … Сразу вспоминаются выражения лиц моих коллег по службе, добрых знакомых, но особенно «собратьев по перу», когда я презентую им свою новую книгу. Но – это надо только видеть, словами передать можно, не живописуя, лишь абрисно: самое невероятное, как обрезки копченой колбасы в винегрете, сочетание обиды, ведь не бумажку, на худой конец с портретом Вашингтона*, дают! с непониманием сущности странного дара, а главное – в глазах облагодетельствованного, доцент он или полный профессор, слесарь-интеллигент (как у одесских классиков), тож знающая грамоте домохозяйка и так далее по всей социальной иерархии, мечется самое полное отчаяние: да разве можно прочесть (даже средней толщины) книжку? Это-то попривыкши к «мыльным» телеграфным сообщениям в пару-тройку строк, к таковым же эсэмэскам… А главное, зачем? Ведь за труд чтения никто не даст тебе бумажку, на худой конец… – см. чуть выше. Как говорят физиологи, порочный круг патогенеза замкнулся.
Так, или примерно так, всего лишь за два десятка лет бывший массовый читатель обрел качество компьютерного мышления, сущность которого состоит в следующем. Раз выше упомянуты физиологи, то с позиции физиологии работы человеческого мозга все три главнейшие функции этой работы, а именно, базовая (подсознательная) память, логическое левополушарное и художественно правополушарное мышление, нивелируются по всем субъектам этого мышления. Как Макар Нагульнов из «Поднятой целины» советского классика рассуждал (и в точку попал, не целясь!) о будущем человечестве в том смысле, что все будут одинаковыми на лицо и мысли, «смугленькими такими». По отношению к логике и художественности мышления неприменим принцип Архимеда–Лейбница: если где-то убыло, то в другом месте прибыло. Хотя все по той же физиологии правое и левое полушария трудятся совершенно автономно друг от друга, лишь «технически» соединяясь так называемым мозолистым телом (в известных опытах с перерезанием такового у обезьяны, последняя особь не изменялась в поведении после этого…), но иначе как лукавством и малограмотностью нельзя не считать уверения «телевизионных авторитетов» («В русском человеке дерзости его ученого языка – почти нет пределов», – Ф.М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 год), что-де ослабление художественности в современном человеке «компенсируется» усилением логики мышления. Нет, уважаемый имярек, ты самовольно законы эволюции не переписывай! Как в очеловечивании – в движении социальной эволюции – логика и художественность мышления всю дистанцию периода цивилизации и культуры «шли на равных», так и в обратном процессе расчеловечивания, увы, они тащатся вспять, имея один старческий посох на двоих…
• В компьютерном мышлении оцифрованный* мозг нивелируется по всем трем названным функциям. Базовая память, как уже говорилось выше в очерке, хранящая в себе все накопленное и воспринятое человеком за сознательную жизнь, с безгласным ужасом осознает свою невостребованность. Это как современный писатель. Зачем сколь-либо мощная память современному Недолайкину, если двумя-тремя нажатиями клавиши компьютера или столькими же касаниями подушечкой указательного пальца экрана смартфона он получает ответ на возникший вопрос? И это никакое не преувеличение тенденциозное, а уже сугубая обыденность. Пример из жизни всегда воспринимается нагляднее и убедительнее туманных ссылок на психологию мышления и прочие научные дисциплины, коль скоро пишем для массового читателя – уже не оговариваясь вдругорядь: а есть ли в природе сейчас таковой? Вот и пример. Из ничтожного числа читателей моих ро́манов самым усердным полагал средневозрастного доцента. Он действительно читал и сейчас читает мои книги – это сразу видно по отдельным его репликам по части сюжетов и персонажей. Был я в восторге и всячески привечал столь редкую особь в современном человейнике (а в вузах «преподы» и в советское-то время беллетристикой пренебрегали, только лекции свои талдычали…). Но весь восторг ушел в бездну уныния, когда тот однажды признался: «Уф-ф! Закончил ваш роман; почти полгода читал – очень уж часто приходилось обращаться к интернету: много «непоняток» встречается».
«И ты, Брут!» – мысленно вскричал я, а самого как ушатом холодной воды окатили. Как? современный, грамотный человек, не лишенный тяги к художественному, уже без интернета не способен прочесть роман, написанный по всем канонам (грешен, не уважаю всяческих эпатажно-пиаровских вывертов) русской и советской художественной прозы?! Более тому доценту книг не даю. Да и он повзрослел – не просит. Так и лишился последнего читателя на горестной ноте «си» и с доминантой «быстрее, еще быстрее к компьютерному мышлению».
Полагаю, пример убедителен. Владея корпусом знаний в эволюционной и социальной биологии, а также в современной математике описания информационно-энтропийных систем, можно точно рассчитать число поколений в ряду расчеловечиваемых компьютерным мышлением, после чего у такового индивидуума базовая память остается лишь артефактом. Что и сделано в сугубо научной серии книг ЖМФН. Получается лишь счетное число поколений… Но ведь базовая память есть и базис (извиняемся за невольную тавтологию) литературного творчества! Вывод неутешителен: компьютерное мышление и художественное творчество несовместимы.
От ущербления при компьютерном мышлении качества и содержания базовой памяти расчеловечиваемого индивидуума переходим к логике. Очень сложно в неспециализированном очерке объяснить угнетение логики мышления в оцифрованном человеке. Поэтому ограничимся примером, но – все прекрасно объясняющем. Не только психологам, но и любому наблюдательному, самодостаточно мыслящему человеку хорошо известно: если при разговоре vis-а-vis все время, что называется не моргая, собеседник пристально смотрит вам в глаза, то значит… он врет. Вспомните, именно так «лупит на вас свои зенки» (это у Даля так сказано) продавец, пытающийся всучить залежалую китайскую некондицию, убеждая в ее замечательной высшесортности. Или начальник, убеждающий подчиненного в самом благожелательном к нему расположении…
Но мы не о «зенках», которые просто к слову пришлись, хотим сказать, а о жестикуляции руками. Опять же практикующий психиатр (или просто квалифицированный психолог) как дважды два объяснит, что навязчивая жестикуляция руками при разговоре есть самовернейший признак … скажем мягко: логической недостаточности. Вы, читатель, злорадно вскричите: да-да, ведь женщина и пары слов не может произнести, не сопроводив их такими выкрутасами рук, особенно соблазнительно обнаженных, от плеча до мизинца, что даже великий актер-мимик Марсель Марсо позавидовал бы! Не торопитесь, если даже намедни обиделись на супругу, сварившую на обед пустой борщ вместо наваристых щей с бараниной. Да, у женщин слабовата обычная формальная логика мышления, то есть «да – нет – или», чем и гордится сильный пол. Но зато, как отметил и обосновал еще полтораста лет тому назад популярнейший тогда «разговорный философ» Бокль, женщинам, более чем мужчинам, присущ дедуктивный характер мышления (это как у Шерлока Холмса…), что есть вернейший признак намного более продуктивной аналоговой логики.* Так что мы квиты в части логики! Опять же таковая логика и жестикуляция слабо коррелируют, но вот обычная логика – см. выше. А теперь посвятите два-три часа телепередачам начала вечера, когда идут сплошь «разговорные» программы, и обратите внимание на руки страстных мужиков-говорунов: тот же Марсель Марсо отдыхает… Выводы за вами.
Одна nota bene: если среди ваших знакомых или коллег (не дай бог, родственников!) присутствует представитель достаточно редкого типа мужчин, что даже при ходьбе ни на миллиметр не пошевельнет руками, держа их строго вертикально, то – отрекитесь от такового. Полное отсутствие жестикуляций есть вернейший признак характера с набором негатива: себе на уме, подозрительность, своекорыстие, мстительность и пр. Упаси бог!
• Итак, логика у «компьютерного мыслящего» (в отличие от собственно компьютера, работающего строго по законам формальной логики) человека ущемлена. А раз, как сказано выше, у логики и художественности один посох на двоих, то снижение логичности мышления влечет за собой и антипотенцирование художественной творческой мысли. Опять же не станем особо умничать, но упомянем высказывание признанного авторитета эволюционной биологии Джулиана Хаксли, что-де высшие животные тоже мыслят, но не осознают этого своего качества. То есть не обладают понятийным языком, а язык – это и есть предмет и содержание логики – и сама логика, добавим мы вслед за Хаксли и выдающимся нашим философом и логиком А.А. Зиновьевым.
Оставим в стороне наших родственников обезьян, как жителей иных климатов. Но в час вечернего досуга, особенно умеренно «употребив» за ужином, посмотрите внимательно на своего домашнего питомца Ваську или Полкана. Оба они, умно́ наморщив лбы, уже давно воззрились на главу домашней стаи – это для Полкана или мирного сожителя – для Васьки. Нет, в отличии от домохозяйки, они и словом не желают упрекнуть в «горячительном» (под селедочку) старте ужина, но в их глазах прямо-таки читается желание рассказать о проведенном без работяги-хозяина дне – в форме доноса друг на друга (у хозяев научились): как Васька гулял на запретном для него кухонном столе, а вот Полкан, вскочив на подоконник, лаял на дворовую Жучку… Много чего есть поведать, но лишенный логики разум не в силах собрать донос в цельный образ и хотя бы промодулировать мяуканье и лай смысловым звукорядом. Тогда бы даже слегка охмелевший хозяин понял сущность верноподданнически докладываемого. А вот хозяйка с ее дедуктивной аналоговой логикой все и так понимает. Но прощает шалости по извечной женской доброте…
Бредите, сударь! Это наш «поток сознания» прервал разгневанный читатель. Ведь сколько эсэмэсок можно было выщелкнуть на «компе» или «смарте» за время, что понапрасну потрачено на чтение про Ваську и Полкана. Жучку тож. Нет, уважаемый, не бредим, ибо наяву пишем, а на часах нет двух пополудни, с коих еще предыдущий губернатор наш, трезвенник и долларовый миллиардер, распорядился продавать акцизную… А на примере с преданным Полканом и доморощенным философом Васькой образно и архипонятно показана сущность (без умничанья!) хромоты – вослед за таковой у логики – художественного творческого мышления у ныне расчеловечиваемого усердием Великого глобализатора индивидуума; в нашем случае литературного сочинителя и читателя с благоприобретенным характером компьютерного мышления. То есть, утрата логики имеет прямым следствием функциональную безграмотность.
Опять же, стиснув волю в кулак, посидите часок-другой перед телеэкраном, выбрав программы, где телеведущая в глубоко декольтированном наряде или молодой тележурналист с модной уже третий сезон среди «патриотов» антипатриотической растительностью (стрижка с оселедцем «под хохла» и бородка на кадыке – явно под «игиловца, смелого бойца») интервьюируют … кого угодно, любого возраста, образования (по диплому лишь, впрочем), должности и рода занятий. Ну-у, например, по теме цифровой экономики, футбола, всяческих успехов во всем сразу. Теледива и молодой репортер задают вопросы заученно, потому грамматически и даже в смысловом наклонении правильно. Допрашиваемый же, виртуозно маневрируя сухонькими ручонками, выдавливает из себя некие слова-термины, преимущественно американизмы, кое-как связывая их междометиями и словами-паразитами: э-э-э, м-м-м, вроде как, типа того, как сейчас принято, классно и т.п. Эллочка Людоедка на таком фоне за эстрадного чтеца-декламатора сошла бы!
То есть функциональная безграмотность, как возврат эволюции от человека разумного к высшим животным (см. выше определение Джулиана Хаксли), есть потеря логики языка, который, как было сказано, и есть сама логика. Это не эвфемизм, но закольцованное определение сущности происходящего. Человек помнит набор слов, понимает этимологию каждого из них по отдельности, то есть сопоставляет с ним образ в оперативной памяти, но связать их в осмысленную, законченную семантико-семиотическую, как бы сказал ученый в части психологии мышления, увы, он не в силах.
Вот такого «читателя» с уже сформировавшимся компьютерным мышлением и имеет нынешний сочинитель … вдобавок, и он уже сам затронут таким поветрием.
Чтобы не запутать читателя из числа не разучившихся понимать литературные тексты, то есть знакомящегося с настоящим очерком, все же уточним выделенные выше понятия в их взаимосвязи. Человек – это не компьютер, и наоборот. Как бы ни старались современные масс-медиа убедить нас в скором наступлении «эры искусственного интеллекта», в которой, как уже говорилось выше, человек биологический и бездушная железка-пластмасса компьютера и их сетей сравняются в разуме, но это есть сущая профанация. Во-первых, законами эволюции таковой «искусственный интеллект» не достижим (см. в ЖМФН) – он был, есть и будет только запрограммированной человеком машиной. Во-вторых, в контексте нашей темы, действенен принцип «у больного здоровья не просят», то есть если человек может бесконечно (в разумных пределах) совершенствовать ЭВМ и их <глобальные> сети, основанные на нейропринципах, самопрограммировании и пр., в какой-то степени имитируя в их работе-вычислении свое, человеческое, мышление, то обратный ход, то есть обретение человеком компьютерного мышления, дает обратный же эффект: расчеловечивание. И все это по части законов эволюции! Дадим суммирующее определение.
То есть сущность компьютерного мышления человека заключается в приобретении им функциональной безграмотности, как следствие утраты логического мышления, то есть сведения мышления к оперированию отдельными словами-терминами с минимальной смысловой связкой между ними. В отличии от человека, компьютер вычисляет по строгой логике, заложенной при создании ЭВМ человеком, но компьютерно мыслящий человек утратил эволюционно заложенное качество опережающего самопрограммирования.
Единственное, что осталось у «компьютерного мыслителя» от человека в прежней, творческой ипостаси в том же качестве, – это оперативная, или «разговорная», память. На нее-то и перенесена вся «нагрузка», ранее парциально раскладывавшаяся на базовую память, логику и художественное мышление. Но и здесь, с учетом языкового общения, налицо смещение понятий. Несколько трансформируем известную пословицу: что у компьютерно мыслящего человека на уме, то есть в оперативной памяти, то и на языке. Но в таковой связке «оперативная память – язык» по определению (см. выше) логика мышления ущербна. Отсюда и современная формализация языка – со словарем Эллочки Людоедки, американизмами и пр. То есть слушаешь нынешнего человека и вроде как кажется: по делу говорит, суховато, но вроде убедительно, слов мало, говорятся они по многу раз… Но прослушал – и тотчас забыл, ибо не было логической увязки. Ведь формализация языка – это не логика, хотя по первоначалу таковой может и показаться. Словом, эффект жевания ваты во рту… Или чтение нынешних газет: как «правых», так и «левых».
• Вот и представили облик современного «читателя-нечитателя». Заметим, что это не брюзжание, не негативизм по образцу «раньше масло было маслянее (хотя и это сущая правда!) и вода мокрее». К сожалению, все сказанное есть то же самое «ума холодных наблюдений» – см. ЖМФН, а кто нам не поверит – перечитайте величайшего провидца Ф.М. Достоевского, в отношении которого литературоведы обычно отмечают, что из его предвидений очень многие сбылись, но именно все они из числа пессимистических в отношении грядущих этапов социальной эволюции человека. С этим надо не то что смириться – законы эволюции пересмотру не подлежат! – а человек, как уже говорилось, сверхадаптивное ко всяким изменениям создание природы, но просто иметь в виду, не задаваясь в данном аспекте исконно русскими вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?» С первым разобрались, а вот что делать современному писателю при наличии компьютерно мыслящей «читательской аудитории», то есть о чем же писать, в каком «наклонении» и пр. – вплоть до сокраментального: а стоит ли вообще мудрствовать-сочинять и тискать литерами все дорожающую бумагу?
… Книгоиздатели и книгопродавцы (см. разговоры в стихах с представителями этих почтенных профессий у Лермонтова и Маяковского) и представляющие их на «медиарынке» СМИ призывают мастеров словесности потакать изменяющимся вкусам потенциальных читателей. А кто, дескать, не захочет следовать девизу «чего изволите?» тот загодя избавит господ книгоиздателей от хлопот тиражирования своих сочинений, ограничившись печатанием одного экземпляра – для себя любимого.
С другой стороны, азартно следуя «чего изволите?» социальному заказу компьютерно мыслящей массы, в плане историческом легко впасть в конфуз-пассаж, триста лет тому назад случившийся с Генделем – извиняемся, опять о музыке, но ведь она тоже величайший ареал творчества, – а именно, когда он создал свою знаменитую оперу о завоевателе Египта Кае Юлие Цезаре, написав партию римского императора специально под «заказ»-голос знаменитого тогда певца-кастрата. И вот уже три столетия постановщики оперы ищут по всему свету исполнителей с редким контр-тенором! А то и просто в декор-доспехи великого воителя полумира одевают певицу с меццо-сопрано.
Так и сочинитель «чего изволите?» написав на потребу сегодняшнего дня, уже завтра рискует быть причисленным к лику писателей из числа «ныне совсем забытых». Ведь, повторимся, социальная эволюция человечества именно сейчас, в эпоху глобализации, мчится навстречу неизвестности стахановскими темпами: сегодня массы расчеловечены до статуса компьютерно мыслящих на ¼ от прежнего творчески воспринимающего естества; поутру завтра глянь – уже на ½, а к позднему ужину и на все сто про́центов! Не успеешь торопиться – по женской (которые с дедуктивным мышлением…) присказке: бегу и падаю, споткаюсь на ходу.
К социальному заказу еще вернемся, но сначала дадим облик современного труженика пера. Это, по преимуществу, тот, кто еще сохранил в себе отголоски – по времени недавнего – императива того же соцзаказа, главное, не мыслил в унисон с самым «блестящим» Людовиком: «Apres moi le déluge» («После меня хоть потоп»). Попутно, для наивного читателя, заметим: не следует путать компьютерное мышление и авторскую работу, то есть набор, редактирование, корректуру, верстку, с использованием своего домашнего «компа». Хотя, по здравому размышлению, можно сказать, что таковая технизация творческого процесса несколько отвлекает от сущности ее, особенно в поэзии и драме … впрочем, может это и дело сугубой привычки. Но мы – сомневаемся, и все тут!
Такой вот «запоздавший» сочинитель, почти что из предыдущей эпохи, хотя и лет-то мало прошло, а потому еще в поре творческой активности, несет в своей душе и характере самый странный симбиоз, который на Западе формулируют известным эвфемизмом (раз уж вспомнили выше французскую мову, то вдругорядь обратимся в ней: «Grattez le russe et vous verrez le tartare» («Поскребите русского, и вы увидите татарина»). Нет, мы, конечно, не наших, почти что братьев, татар, с которыми живем бок о бок за шестьсот лет, здесь имеем в виду, но именно то, что в современном, еще не расчеловеченном, русском образованном человеке, к каковому можно зачастую и писателя отнести, наблюдается вот этот самый престранный симбиоз – grattez землепашного крестьянина и … дворянина. Каждого с его характерными чертами – хотя бы и в предельно малом масштабе. Первое – по преимущественному происхождению; ведь все мы «от сохи» наших дедов-прадедов. А уж прадеды у нынешнего старшего поколения еще и крепостное право застали! А вот второе – от высокой советской культуры, преемственно воспринятой от величественной русской культуры же XIX века, по преимуществу дворянско-помещичьей. И здесь лидирует по глубине и ширине (массового) охвата именно литература. Полагаю, смысл данного разъяснения симбиоза понятен – безо всякой обиды для потомков мужика и помещичье-служилого дворянства.* … Чтобы по-бабски тотчас не ополчились, сразу скажу, что оба мои деда пахали землю, а затем в Империалистическую воевали солдатами-окопниками, правда, один из них – все в той же Франции под Верденом в составе русского корпуса, посланного «дружественной Антанте» Николаем Вторым…
Итак, таковые сочинители переходного периода от человечества к человейнику скорее пишут по творческой инерции: как разогнавшийся паровоз не в состоянии дать стоп ходу.
• Вернемся к социальному заказу, отвлекаясь от категории литераторов: «переходные» ли, современные генерации… Таковой заказ определяют не цари, генсеки или президенты. Его формирует, понятно дело, социальная же среда. Советский Союз не являлся, как нас убеждают, неудачным экспериментом Истории. Это был пробный ход социальной эволюции, каковая в своем движении и есть сочетание пробных – опережающих, ложных, тупиковых, проверочных и иных – ходов (подробно см. в ЖМФН). Советский социализм – в отличии от параллельных с ним национал-социализма Третьего Рейха и Социальной (фашистской) республики Муссолини – был именно успешным опережающим ходов эволюции. С позиции законов ее это была проверка возможности создания жизнеспособного социально ориентированного общества – государства. С окончанием проверки магистральный путь эволюции вернулся к исходной доселе точки, выработав «решение»: путь к всеобщности такого общества лежит через глобальный переход от капитализма-империализма к социально-ориентированному всемирному социуму. То есть прав оказался гениальный прозорливец Маркс: только всем миром! Другое дело, что путь здесь лежит через расчеловечивающий глобализм, а грядущий Марксов коммунизм суть всемирное царство технической виртуальной реальности с приданной к нему роботомассой бывших индивидуальных людей. Опять извиняемся за «краткий курс» политграмоты – это для дальнейшей ясности.
Частнособственничество, как давний атавизм человека и существующая на нем (как мухи на навозе, извиняемся) мелкобуржуазная биомасса, несомненно, давала свой соцзаказ, от противного, как в математике, породив в литературе метод критического реализма. Но имеет ли такую потенцию глобализм, тем более в нашей стране, искусственно-насильственно возвращенной к названным артефактам-атавизмам частнособственничества и биомассы? Предложенный и обоснованный нами метод нового русского критического реализма (см. различные издания; в интернете – по поисковику) применим, по существу, только к отечественной литературе, которая, в отличии от Запада – Востока, еще долго будет сопротивляться, то есть не терять свои истоки. Самое существенное, что сейчас исчезает основа, базис критического реализма – классовость социума, ибо в глобализме классы отсутствуют. Это особенность олигархического устройства мира, что уже давно проверено во времена античности. Вместо классов – пирамида общества потребления. Надеемся, особо пояснять не следует.
Наш русский народ, особенно советский, был творческим конструктором; сейчас же он молниеносно перерождается в квалифицированного потребителя. Это даже не наши слова, а одного из (многочисленных в девяностые-двухтысячные годы) министров по части образования. По крайней мере, может и не лучшим из министров был, но сказал откровенно, с «прямотой римлянина». А какой соцзаказ может быть у преобладающей профессии «манагера» и «офисной креветки»? – Если только о преимуществе коворкинга и фрилансера, то есть работы не в конторе под надзором начальника… Но все одно манагеры и креветки читать давно разучились; точнее говоря, и не умели. Тем более, что нулевой социальный заказ будем иметь на грандиозное полотно, всесторонне показывающее безысходность человека творческого, самоосознающего в глобалистском человейнике, сравнимое, например, по мощи с показанной М.А. Шолоховым в «Тихом Доне» безысходности казачества (а в области Войска донского тогда проживало пять миллионов!), попавшего в социально-политическую ловушку. Таковой современный писатель не то что на Нобелевскую (тоже уже глобалистскую) премию не сможет претендовать, но даже на диплом III степени участника конкурса ЖЭУ № 17 «Наш оцифрованный двор»!
Так что, в отсутствии соцзаказа – по определению самой глобализации – остается нашему старинному сочинителю писать все для той же обнуленной аудитории по принципу артиллериста: выстрелил и забыл.
• Продолжим о симбиозах, которыми насквозь пронизана история России: от официального девиза графа Уварова «самодержавие – православие – народ» до современного неофициального, сформулированного А.А. Зиновьевым: «западнизм – советизм – феодализм (церковь)», причем советизм – это где надо еще немного подождать, штаны подтянуть, а западнизм – постоянные ссылки в СМИ: а вот у них так-то, нам надо тотчас перенять… исключая ссылки на западные зарплаты, конечно.
Естественен вопрос: если должно нам равняться на Европу – Америку во всем (кроме зарплаты), то теперь-то в эпоху глобализма разве не спасение для русской словесности и ей подравняться? Немного совсем уж близкой истории. В середине семидесятых годов журнал «Иностранная литература» как-то в одночасье обрушил на неискушенного советского читателя целый ворох (условно) современной западной литературы; на памяти: «Портрет художника в юности» автора «Улисса» Джеймса Джойса, «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша, «Рыжие сестры» Франсиско Гарсиа Павона, «Кружевница» Паскаля Лэне, «Теофил Норт» Торнтона Уайлдера, «Человек-ящик» Кобо Абэ, «Черный принц» Айрис Мердок… можно еще на пару-тройку строк продолжить. А в сборнике «Писатели США о литературе» (1974 г.) и главного теоретика современной западной литературы Дж. Сантаяну опубликовали. В той же «Иностранке» напечатали «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» молодого европейского писателя. Коль скоро других его публикаций на русском языке тогда не было, то и имя его (скорее всего псевдоним) не запомнилось. Что-то вроде Ричарда Баха. Но именно эта «Чайка» с уважительным именем и стала квинтэссенцией новой западной беллетристики. В девяностые годы у нас начали печатать и тех, кого на Западе именуют (скромно) «современные классики»: Кастанеда, Урсула ле Гуин, испанский писатель из Валенсии Хуан Хосе Мильяс.
Из чтения всех названных выше «почти современных и уже современных классиков» вырисовывается основная (и довлеющая!) творческая манера западных писателей: опять же симбиоз реальности и вымысла.
… Вроде как Запад, особенно Европа, давно социально-политически и экономически едины; глобализм их-то уже полностью поглотил. Но едина ли их литература, как того следовало ожидать, бесконечно пережевывая это сочетание реальности и вымысла? На первый взгляд – утвердительное «да». Читая роман «У тебя иное имя», за который Мильяс был удостоен престижной испанской премии Nadal, и мы как бы не выходим за стены-рамки уже и своего сектора глобализма: главный герой романа Хулио лечит простуду тем же колдрексом, что и мы приносим из аптеки; в видении (реальность + вымысел) телевизионщики устраивают реалити-шоу встречи внучки с бабушкой после многолетней разлуки (см. на наших экранах целый сомн таких телеспектаклей…). И так далее: все «родное», все стало похожим на земшаре. Пожалуй, единственное отличие от «наших палестин» – Хулио регулярно посещает «своего психоаналитика». Это скорее сходство с американским бытом, где каждый Джон имеет своего адвоката и психоаналитика. У нас же пока народ в массе головой здоров, а потом опасается всяких наименований, содержащих корень «псих», полагая носителей таковых шарлатанами. «А то занесут в какую-нито картотеку, потом и прав водительских не получишь!» – вполне справедливо рассуждает добрый наш народ, опутанный суконно-цинковой бюрократией…
Но мы отвлеклись на злободневное. Читая же «глобализованный» по деталям быта роман Хуана Хосе Мильяса, «современного классика», сквозь все эти колдрексы, психоаналитиков, телешоу «Жди меня» вдруг неосознанно вспоминаешь … «Дон-Кихота». Ни много, ни мало! Даже в нашу злосчастную эпоху глобального нивелирования именно в литературе нельзя заглушить ее корни и истоки! Точно также читая современную французскую, англо-американскую, немецкую литературу, в особенности прозу, находишь, также неосознанно, ее корни: Монтеня и Руссо, Лоренса Стерна и Шекспира, Гете и Шиллера, соответственно.
И в какой степени нам равняться во всем и всея на Запад в части словесности, имея свои корни и истоки, идущие от Ломоносова и Державина, Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Карамзина (хотя бы последний испортил русский язык введением французской буквы «ё», а русскую письменную историю своей «чего изволите?» под династию Романовых…), а ближе к нам и вовсе умолкаем от гордости и восторга за нашу великую русскую литературу.
• О цензуре и самоцензуре, этих извечных спутницах русского писателя, которых мы фривольно сопоставим со строгой супругой-домоправительницей и игривой, но требующей бдительного присмотра любовницей (содержанкой у людей, как сейчас говорят, состоятельных), соответственно, мы уже публично донесли.* Кстати говоря, и собственно междоусобные доносы, так замечательно, почти что любовно описанные в «Мастере и Маргарите», доселе в ходу. Как это ни странно, когда собственно литература в забросе у властей. Обратная сторона доноса – неимоверно усилившаяся именно сейчас взаимная неприязнь литераторов; по закону Дарвина межвидовой борьбы (главное, ведь не за что и бороться-то!): все против всех. От скуки жизни, надо полагать. Ведь известно, что похвалить собрата-писателя все одно, что улыбнуться, скушав лимон или ложку горчицы. А вот в наше время – выпив стакан уксуса… Так что все это неистребимо, а главное, есть та лакмусовая бумажка, что свидетельствует: жив курилка (Ромен Роллан)! Есть еще порох в пороховницах, то есть жива еще литература. Опять же – утверждение от обратного, как в математических доказательствах.
Вот мы и добрели-таки до вопроса вопросов: о чем же писать современному сочинителю при «нулевой» аудитории читателей? Вроде как жизнь (якобы) бурлит … но скорее сродни мыльной пене в корыте, возмущенной кувшином влитого кипятка. Та же Европа полностью опидорасилась, говоря словами Никиты Сергеевича, и на Россию всем кагалом – пока словесно – прет. Вот бы о чем ро́маны тискать! Но для кого? И стоит ли вообще про Европу-то? Опять же здесь все сказал Достоевский: «И вообще мы так поставлены нашей европейской судьбой, что нам никак нельзя побеждать в Европе, если б даже мы и могли победить: в высшей степени невыгодно и опасно. Так, разве какие-нибудь частные, так сказать, домашние победы нам они еще могут «простить», – завоевание Кавказа например» («Дневник писателя» за 1876 год).
Все сказал Федор Михайлович про наше нынешнее: и про «Кавказ (увы, далеко не весь) подо мною» – частная победа, и повсеместный снос (кроме Германии и Венгрии – главных наших противников в войне) в Европе памятников советским воинам – «невыгодно и опасно» нам побеждать в Европе.
Так что тема Европы для русского писателя сейчас закрыта. Равно как и вся современная история. И зачем писать, душу рвать? Обывателю из трудовых офисных и иных масс выше горла информационного шума от СМИ. Потом – напишешь романище, облегченно вздохнешь, «… в конце письма поставив vale», включишь по рассеянности вместо утюга телевизор – а там в духе глобализма уже великое примирение! Живем-то все как на вулкане. Вокруг самое неприкрытое лицемерие, всякие толерантности и общечеловеческие ценности (то есть доллары и евро), а у нас еще щедро сдобренные суконно-цинковым административным восторгом.
Опять же писать, полагая запиариться, «по-европейски» (см. выше), мешая сказку-вымысел с действительностью, не всякому по нутру. Не получается по-европейски, все смахивает на рекламу презерватива, по нанотехнологиям китайцами сотворенным.
Вроде как чиновников-взяточников у нас поругивают, даже особо одаренных образцово-показательно в узилища препроваживают. Казалось – пиши не хочу! Ан нет, у нас опять же традиции на этот счет ограничительные. «Отцы отечества начинаются у нас с чина тайного советника», – писал Достоевский, а Михаил Евграфович и вовсе понижал границу неприкасаемости до коллежского асессора, то есть майорского чина. В советские времена таковым рубежом являлся руководитель горкомхоза товарищ Саахов. Традиция!
Но ведь имеется еще история СССР, история древняя? Есть и фантазии, детективное чтиво? Старинный наш сочинитель последними брезгует, женским сочинительницам отдает… История СССР? – как-то неуютно сейчас «агитировать за советскую власть». Климат не тот, а остатки традиционного советизма (см. выше) прилагают к нынешним докукам властей.
… Словом, куда ни кинь – всюду клин. Современность – информационный шум не перекричишь; опять же тема здесь архисужена: ничего, дескать, личного, только бизнес. Но писателю-то более всего эта современность приемлема, свой личный опыт. Для «пограничных» сочинителей здесь есть творческая лазейка: как Лев Толстой, что создавал «Войну и мир» спустя полсотни лет после событий Наполеоновых войн – близкое видится на расстоянии – так и наш современный писатель, одной ногой еще уверенно стоя в советском прошлом, а другой брезгливо нащупывая опору в сонме кишашей частнособственнической мелкобуржуазной биомассы, способен на творческий подвиг: окинуть единым художественным взглядом советское прошлое, ведомое ему и переданное ближними пращурами, и современное – не все же гадливо и в нем! – Хотя бы свои дети и внуки. А о «партии и правительстве» пусть пишут Юрий Мухин и Владимир Бушин; Максим Калашников и Игорь Пыхалов тож. Им дозволено условно, через тираж в тысячу-полторы экземпляров, выпускать пары.
Своя жизнь с сопричастной ей «удельной» и более пространной историей, преломляющая окружающую действительность через себя, опять же в свете исторического опыта, – наиболее устойчивая платформа современного писателя, хотя бы по принципу страуса и закрывающегося от малоприятной реальности оцифрованного жития нашего (см. сноску выше). Любой творческий труд не должен пропасть! – Это как библейские семена добрые… Была бы земля для них еще.
Мой товарищ и литературный коллега Леонид Кириллович Иванов, окормляющий Тюменскую писательскую организацию СПР, как-то заметил в своем письме: «… Опять пишу о деревне. Наверное, никогда я не отойду от этой темы, как и ты, мой друг, никуда не денешься от своего Севера и Северного флота». Так тому и быть. «Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий, в отишье пристав, и странник, в отечество свое пришед; так же радуется и книжный списатель, дошед конца книгам. Тако же и аз, худый, недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий мних…» (Лаврентьевский
г. Тула
