СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ: ЛЕТО В ОРЛОВСКИХ ЛУГАХ


Родился в 1963 году в Тульской области, врач и писатель, с 2001 года главный редактор, издатель литературного альманаха «Тула». Автор восьми книг прозы, в том числе «Танюша» М., изд. «Книжный сад», 2001), «Девочка в желтом платьице» (Тула, изд. «Аквариус», 2014), «Пересечение судеб» (М., изд. «Звонница», 2021), «Толстой и Толстые» (Тула, изд. «Аквариус», 2021). Лауреат литературной премии им. Л.Н.Толстого (Тула, 2011, 2021), премии «Золотое перо Тулы» (2011), дипломант литературного конкурса Международного фестиваля «Золотой Витязь» за книгу «Мой учитель Лев Аннинский» (2020), за альманах «Тула» (2021). Обладатель «Золотого диплома» конкурса «Золотой Витязь» за книгу «Пересечение судеб» (2022). С 1996 ежегодный участник Яснополянских писательских чтений. Публиковался в литературной антологии «Наше время», журналах, газетах, альманахах Тулы, Орла, Смоленска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Лейпцига, Нью-Йорка, Вашингтона, в московских «Литературной газете», журналах «Время и мы», «Наша улица», «Родина», «Роман-журнал 21 век», «Форма Слов» и др.
ЛЕТО В ОРЛОВСКИХ ЛУГАХ
рассказ

https://pxhere.com/ru/
Теплым июльским вечером на сыром асфальте в Москве блестели отсветами рекламы большие лужи. Савин сидел под навесом за уличным столиком небольшого кафе, делая записи в лежащем на столе ноутбуке. Старался раствориться в пространстве, впитывал происходящее, улавливал обрывки речи шагающих мимо людей. Работая над очерком для газеты, Савин сравнивал Москву с кастрюлей ухи, в которой варится человечина. «В больших городах многие люди похожи на рыб, – писал он, – так же скользки и увертливы, всё время хотят нырнуть в тину анонимности…» Сравнение показалось ему избитым, он стер написанное. «Москва, как Вавилонская башня, где смешиваются народы и языки…» Нет, и это не годится… Савину многое приходилось стирать в результате самоцензуры. Медленно продвигаясь, он рассуждал в очерке о «гогах и магогах» – азербайджанцах, дагестанцах, чеченцах, узбеках, – которые с 1990-х потоком хлынули в Москву, стремительно меняя ее лицо. «Этнический сдвиг в столице, – выстукивал на клавиатуре Савин, – начался при первом столичном мэре. При нём отменили институт прописки, московские чиновники стали зарабатывать на взятках от южных диаспор…» Савину виделся в этом не только денежный интерес. Он думал, что некие силы хотят сделать славян этническим меньшинством в собственной столице, южане казались им более управляемыми, они легче укладывались в социальный порядок нового общества, которое в России стремительно разделялось на касты. «В России не изжито кастовое сознание, но любое разделение внутри себя вредно для страны и народа. «Дом, разделившийся в себе, не устоит», – сказано в Библии. Гражданское общество России кровно заинтересовано в социальном балансе…», – торопливо печатал Савин.
Несколько минут спустя он откинулся на стуле, отпил из чашки остывающий кофе. «Москве, да и вообще Европе, перелили чересчур много чужой крови», – допечатал в статью Савин, поглядывая, как ветер гонит по асфальту брошенный кем-то мусор. Целлофановые пакеты иногда надувались и взлетали в воздух, чтобы через секунду ткнуться в бордюр. Некоторые мысли публиковать было невозможно, – Савин прекрасно знал о принятых недавно ограничениях, да ему и самому не хотелось становиться причиной межнациональной вражды и ненависти.
Устав от самоцензуры, Савин еще раз посмотрел на улицу. Напротив кафе, где он расположился, светились стеклянные этажи громадного универмага, набитого электроникой. Две иномарки, не поделив дороги, мигали аварийной сигнализацией. С ревом сирены подкатила дорожная полиция. Молодой офицер, измерив следы торможения, стал заполнять на смятом капоте одной из машин протокол аварии. Телефон Савина мелодично звякнул, высветилось короткое сообщение Алины: «Встречай во Внуково в 23 часа». Это вырвало Савина из оцепенения. Он убрал компьютер в сумку, оплатил кофе, направился к дому-башне, стоящему в глубине квартала. Вошел в гулкий подъезд с чередой детских колясок, стоящих у входной двери. Разъехались створки лифта, стены которого были тут и там расплавлены сигаретами, исчерканы английскими и русскими матерными словами, символикой футбольных команд.
Поднявшись в свою крошечную студию, расположенную в мансарде многоэтажного дома, Савин взял ключи от машины, вынул из вазы букет для Алины, спустился на улицу и выехал в аэропорт.
Алина с разбегу метнулась в его объятия, будто они вечность не виделись. Савина всегда восхищали её сильные чувства, хотя он понимал, что так могут радоваться люди только в детстве и молодости, когда все эмоции напряжены до предела. Савин, в свои сорок лет, был гораздо сдержаннее. Выдохнутый Алиной при поцелуе воздух был наполнен ароматом здоровья и молодости, от её близости у Савина кружилась голова. Он уже несколько раз предлагал Алине выйти за него, но девчонка отказывалась переезжать в Москву, а ему стало бы тесно в Симферополе и Севастополе, при всей его любви к Крыму. При этом Алина и Савин часто виделись, она ездила в московские командировки от крупной симферопольской газеты, куда Савин помог ей устроиться. Он же навещал её в Севастополе, редактировал её статьи, очерки, дарил ей свои, мысли, кусочки текстов. Алина понемногу превращалась в известного крымского журналиста.
Когда Алина прилетала, три дня они вначале отдавали Москве – музеям, паркам, литературным встречам. Летом – пляжам в Серебряном Бору, катанью на речном трамвайчике. Её прошлый приезд, например, был связан с Аннинским. Последний шестидесятник, человек удивительной свободы мысли, демонстративно презирающий денежные и властные резоны, стоял наособицу в мире литературоведческой мысли начала нового тысячелетия. Он, будто йог, удерживался на голове в кровавом, гниющем, иной раз омерзительном мире, сохраняя при этом душевную чистоту и комфортное равновесие. Савин верил: мир и продлевается Богом потому, что в нем есть такие люди как Аннинский, помимо Карабасов-Барабасов, превращающих жизнь в жестокий театр кукол: «Никакой жалости! Цыпленок должен быть изжарен! Полезай в очаг!»
– Аннинский, – говорил Алине Савин, – эдакий веселый Буратино, из любопытства сующий нос в картонный очаг мировой политики, философии, протыкающий в нарисованном очаге спасительную дыру… Оттуда сразу тянет свежим воздухом. Этим он мне напоминает Розанова.
Савин и Алина ездили на встречу с Аннинским в толстовский литературный музей на Пречистенке. Гости вечера то и дело отвлекались на посторонние темы – например, был ли Пушкин эфиопом, или он потомок другого Ганнибала из Ревеля? Каким образом сказалось на политике России масонство Павла Первого? Аннинский возвращал всех к главным вопросам, которые его интересовали: что с нами происходит сейчас, почему мы такие злые? Как человечеству удержаться в ХХI веке от больших войн, которые несколько раз терзали нас в веке ХХ-м?
Савин, выступая, говорил, что удержаться от скорой войны вряд ли получится, новые технологии контроля над сознанием через интернет и телевизор делают людей предельно управляемыми. Глобальные кукловоды обязательно спровоцируют войну в Евразии. Спустя два часа публичного общения Савин и Алина провожали Аннинского до метро, говорили о Розанове.
– Он был очень эмоционален, почти как женщина, – замечал Савин. – Но женской интуицией, совмещенной с мужским умом, он прозревал то, до чего не могли додуматься другие. В его сумятице мыслей есть удивительные озарения, словно выхваченные из нашего времени.
– Мужское начало само по себе не всегда плодотворно, – соглашался Аннинский, – мужчины – завоеватели. Они не могут рожать, а творчество – это акт рождения.
– И даже в подчеркнуто мужских стихах Пушкина, Лермонтова есть женское начало, – добавил Савин. – Я нашел в письмах Пушкина его свидетельство, что у него каждый месяц были приступы необъяснимой хандры, как у женщин в известных обстоятельствах.
– Я недавно видела вас в фильме «Подкидыш», – меняла тему Алина. – Кто бы мог подумать, что из такого смешного мальчика получится большой философ.
– До философии мне тогда было далеко, – улыбнулся Аннинский. – В фильме я хотел стать пограничной собакой. И к старости я стал ею! Я охраняю границу между мирами евреев и русских. По матери я – еврей, а по отцу – русский. Не хочу, чтобы наши миры ссорились. У каждого своя правда, но мне хочется, чтобы эти правды не кровянили друг друга. Иногда они все же сшибаются, и тогда задача людей культуры – извлечь из этих столкновений смысл. Чтобы столкновение идей вылилось не в погромы, не в фонтаны крови из простреленных голов, а в книги. Мне кажется, на планете есть всего три мессианских народа: евреи, немцы и русские. В конце двадцатого века мне показалось, что русские не выдержали своего мессианства, кишка оказалась тонка. Считал, что Россия превратились в обычное государство, где люди думают, как и положено, о марке своей машины, об отпуске и евроремонте. Может для народа это и неплохо – можно спокойно растить детей, путешествовать, а вселенские задачи пусть, надрывая себе пупы, решают другие… Но я ошибся! Похоже, русским снова придется пойти против всего мира, против немецкого имперского проекта – Евросоюза. Немцы совсем недавно, при Гитлере, пытались объединить народы Европы военными методами – и потерпели страшное поражение. Теперь они пытаются действовать через экономику! Могли бы спокойно жить в своей заново объединенной Германии, но дух экспансии в них не убывает. Евросоюз снова шагает на Восток новым «Драг нах Остен», и, скорее всего, это движение на восток опять упрется в Россию, как пятьдесят лет назад!
– А англосаксы? Разве не мессианский народ? – удивлялся Савин. – Они ведь тоже строят мировую империю, в которую Евросоюз входит как составная часть!
– В новой большой империи заправляют не англосаксы, – сказал Аннинский, стремительно исчезая в норе метрополитена.
Алина и Савин остались тогда на Новом Арбате, среди ярких огней и музыки, доносящейся из светящихся ресторанов. Дома-книги разворачивали свои гигантские страницы, мимо неслось стадо лакированных машин, слегка моросил дождь, но Савину казалось, что город ласково обступает его. Савин любил Москву – это был его город, его народ, его время.
Но дождей и сутолоки в Москве с избытком даже летом, поэтому, отдав столице должные три дня, обычно Савин и Алина уезжали куда-нибудь на выходные. Если погода казалась сносной, предпочитали уединяться где-нибудь в Подмосковье. Савину в отелях неплохо работалось, тем более рядом с Алиной. В последнем безмятежном июле, – кажется, это был 2013 год, – они направились в Орел, чтобы навестить престарелых родителей Савина. Вначале посетили усадьбу Толстого, устроившись в гостинице Ясной Поляны. Находилась она среди зелени тульских засек, во дворе там имелся хороший ресторан. Пообедав, удобно расположились на балконе гостиницы. Алина изучала английский язык, заставляя Савина отвечать ей, он же сопротивлялся, намеренно коверкая иностранные слова.
– Хватить дурить! – возмущалась Алина, разложив принесенный Савиным шезлонг. – Ты сейчас портишь мне лингвистическое подсознание!
– Тебе свой язык освоить бы! – парировал Савин. – Ты иногда и по-русски говоришь неправильно!
– Ты почему такой злой? – спросила Алина.
– А ты не знала, что я злой? – горячился Савин. – Литература не связана с хорошим характером! Добряк редко бывает литературно талантлив!
– Ну, тогда ты настоящий талантище, «матерый человечище», – усмехнулась Алина, вспоминая знаменитое выражение Ульянова. Она удобно расположилась в шезлонге, едва прикрытая купальником, родившись на юге, Алина не могла долго выдержать без солнца.
Савин косился на ровный загар её грациозных рук, по-детски вздернутый нос, на выпуклости ее худенького тела, чувствуя подступающее желание. Ему хотелось поработать с текстом, но красота Алины победила, он утянул девчонку в номер. Она слишком долго шумела водой в душе, он устал ждать, принёс её на руках в постель мокрую, с каплями воды на волосах и коже… – Ты мне изменяешь в Севастополе? – спросил после Савин. – Не превращайся в ревнивого старикана! – вспыхнула Алина. – Ревность идет от чувства собственности, это женщину унижает! Мы с тобой свободные люди!
– Вот брошу тебя, – сказал Савин, – тогда будешь абсолютно свободной!
– Не надо меня бросать, – навалилась на него сверху Алина. – Мы так не договаривались! Ты обещал любить меня вечно!
– Когда я обещал? – удивился Савин.
– Ага, у тебя проблемы с памятью! Ты уже по-стариковски начал всё забывать, – прошептала Алина, проваливаясь в мимолетный сон.
На следующий день они навестили родителей Савина, живущих в районном городке возле Орла. Отец разрешил им пожить на своей даче. Стояла прекрасная погода, машина Савина бодро летела к небольшой деревеньке в тургеневских местах. Алина высовывалась в окно, стремительно менялись виды, облака то и дело закрывали солнце своим светящимся краем.
Отцовский домик Алина тут же прибрала, постелила на старенькую кровать чистое белье, после бани сидели на веранде, пили чай, над кипятком в стаканах уютно вился пар, Алина читала вслух прежде написанное ею. Савин критиковал её идейную автономность, говорил, что ей надо быть не только журналистом, но и художником, впуская в свой текст облака, цветы, горящие свечи, книги, ветер, развевающиеся занавески этого домика…
Ночью дом наполняла звучная нежность Алины, – она не молчала, раскидывая на простынях руки, выгибая худенькое тельце, запрокидывая голову, отстраняя от Савина свое лицо с выражением счастливого страдания.
Под утро, когда уходящую ночь отпевали соседские петухи, Савин проснулся пораньше, заварил крепкий кофе, ушел на веранду, сосредоточился на работе, чтобы после, когда Алина проснется, полностью отдаться летнему утру, солнцу, луговому запаху разнотравья. От их домика открывались пасторальные виды с изгибами бирюзового ландшафта, усыпанного деревьями и кустами. Липовые вертолетики, вращаясь, падали на письменный стол, соседская кошка осторожно подходила к его ногам, Савину хорошо здесь работалось. Вскоре проснулась Алина – собрав садовую землянику, она поставила измазанный ягодами туесок на стол, убрав оттуда свои книги по индийской философии.
– В Индии есть сотни племен, которые исповедуют многобожие, как в античном мире, – продолжая вчерашний разговор, сказала Алина. – По их мнению, боги, это смертные существа, и выдающиеся люди могут стать такими же богами. Как тебе это: «Станьте, как боги»! Похоже, это вечное стремление человечества?
– Не стремление, а искушение, – подумав, ответил Савин. – В этом и была суть грехопадения Адама и Евы. Не забивай себе голову чужой философией. В нашем русском кодексе есть прекрасная истина: все духовные законы включены в любовь и проистекают из любви. Наш внутренний закон – любовь. А внешний – красота. Если в человеке нет любви к Богу и людям, значит, – он живет неправильно…
– Зло тоже бывает красивым, – заспорила Алина, её губы при этом вздрагивали от волнения. – И вообще, ты говоришь так, будто знаешь правду! Но абсолютная истина закрыта от человека!
Савин удивленно покачал головой, не стал возражать, потому что от взгляда на Алину у него на сетчатке оставалось яркое пятно, как после взгляда на солнце. Он отвел глаза, взглянул, как сверкает серебряная струя, бьющая из поливального шланга, вновь погрузился в работу. Когда его способность внятно складывать слова иссякла, они с Алиной отправились прогуляться к речке, которая вилась здесь в лугах, холодная и прозрачная от обилия родников. Савин вооружился отцовским подводным ружьем и сбруей для подводного плаванья, нырнул, через несколько минут принес небольшую щучку.
На следующий день, положив в багажник отцовский металлоискатель, они поехали к старой брошенной деревне, найденной по карте в Интернете, хотели найти кусочки бронзы и меди, которые наверняка сохранились в толстом слое многовековой нажиги. Пищал металлоискатель, звенели в траве кузнечики, Савин работал острой лопатой, коровы ходили вокруг, вышлепывая лепешки навоза. Дойдя до источника звука, Савин обнаружил кованый гвоздь, подкову и зеленоватую монету с почти стершейся поверхностью. Судя по ней деревне было не менее 700 лет. Эти предметы, казалось Савину, сохраняли энергетику давно умерших предков здешнего люда. Савин представил жизнь здесь в 14 веке: дорогу, что вилась возле реки, избы и клети, коров на пастбище. Мысли рушились на него водопадом, Алина, устав находиться на солнце, попросилась домой.
Вечером за деревьями тускнела полоса июльского заката, ночью с всполохами и грохотом над ними проносилась гроза, лупил дождь по железу крыши, шипела на гром соседская кошка. Утром возле крыльца встречала свежесть примятой ливнем зелени, промытый до хрустальной прозрачности воздух. На слегка приникших листьях капусты и кабачков сверкали мириады дождевых капель. От обилия влаги множились комары, Савина они почти не трогали, Алине же приходилось гонять их, почесываясь и размахивая руками. Днем комары исчезали, можно было спокойно внимать откровениям летних далей, испытывая счастье неспешной возни со словом. Весенняя свежесть Алины заставляла Савина обнимать её при каждом удобном случае.
– Хватит уже, – смеялась она, – ты меня замучил!
«Мир в молодости расширяется, как вселенная после большого взрыва рождения, – выстукивал Савин в компьютере, – а затем, ближе к пятидесяти, мир начинает сужаться. Происходит схлопывание человеческого мира, смерть же после всего – переход в другое состояние. Недаром говорят, что каждый человек – это маленькая вселенная, которая не может сама себя осознать. Мы воспринимаем окружающее шестью органами чувств, но многое происходит в других измерениях и потому наше осознание происходящего всегда не полное…»
– Ты веришь, что мы увидимся после смерти? – спросил он Алину, поднимая голову от компьютера.
– Верю, иначе все было бы слишком страшно, – ответила Алина, поправляя ленточку сарафана.
– Нужно торопиться жить, – говорил Савин, – время пройдет быстро. Давай поженимся. Я хочу ребенка…
– Чуть позже, – вздохнула Алина. – Я ужасно боюсь что-то менять. Боюсь потерять наше счастье. Насмотрелась на семейную жизнь подруг. Два года после свадьбы – и как они люто ненавидят друг друга! Сильнее, чем любили! А всё потому, что никуда друг от друга не деться. Мне сейчас никто не нужен кроме тебя, но что будет дальше? Я не хочу получить печать в паспорте вместо любви…
– Ладно, – сказал Савин, – я подожду еще немного. Но у меня не так много времени… Это у тебя вся жизнь впереди.
В последний их день на орловской земле Савин повез Алину в знакомый монастырь – там был престольный праздник. Савину нравились деревенский дух этого монастыря, синий цвет его крыш и красная охра стен. Одну из тамошних монахинь он часто видел ещё в миру, старушка теперь узнала его и было что-то родственное, трогательное в этом узнавании… В монастыре тогда служили два священника – один молодой и веселый, а второй уже грустный от возраста и болезней. Старый вдруг сказал во время проповеди, что ему скоро умирать, и потому он, наверное, многих приехавших никогда больше не увидит, потому он просит прощения.
Он вдруг встал перед Алиной на колени, Савин разволновался от этого. Чтобы успокоиться, Савин вышел на прилегающие к монастырю сельские улочки, заросшие мальвой и бузиной. Вскоре начался крестный ход: впереди двигались мужчины-хоругвеносцы во главе с батюшкой, позади – сельские женщины в грубых, почти армейских башмаках. Савин смотрел на эти башмаки, обходящие лужи на сельской дороге, на стадо гусей, галдящее у обочины, на детей, бегущих рядом со священником. Когда тот кропил их из чаши – дети визжали от радости, бросаясь врассыпную. Процессия спустилась к источнику, который пульсировал внизу в деревянном срубе. Чтобы набрать воды, тут нужно было опуститься на колени. Священник погружал в воду крест, поливал всех широкими взмахами руки. Всякий раз, когда струи родниковой воды серебряным веером летели на обступающих священника людей, женщины вздыхали и охали. Старушки при этом лепетали совсем по-детски:
– Вот, потому что сами не хочим кунаться!
После крестного хода все двинулись назад – за монастырскими пирогами. На столике возле храма кипел самовар, вереницей стояли кувшины с компотом, сваренным из монастырской смородины. Савин и Алина съели по куску пирога, окунулись в ледяную воду освященной купальни. Савин, затаив дыхание, опускался в воду с головой, слушая, как за стеной поют тропари купающиеся женщины.
Надо было ехать домой. Стонали шины на асфальте шершавой дороги, вскоре Савин обнимал Алину в сутолоке московского аэропорта, девчонка плакала, прощаясь. Он тоже обнимал её с тяжелым сердцем, предчувствуя, что такой поездки больше никогда не случится. Вечером, лежа в своей нагретой солнцем квартире, Савин вдыхал запах духов Алины, сохранившийся на её забытой рубашке. Савин очень боялся, что этот запах может навсегда исчезнуть из его стремительно убывающей жизни.

https://www.pinterest.com/
ЛОЛА ЗВОНАРЁВА: «ЖИЗНЬ, КАК ТИГРИЦА, ПОЛОСАТА…»

Лола Уткировна Звонарёва – секретарь Союза писателей Москвы, доктор исторических наук, академик РАЕН, ПАНИ, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, член исполкома Русского ПЕН-Центра, автор 23 книг и более 600 статей, переводившихся на 11 языков. Лауреат всероссийских и международных премий (в т.ч. Серебряной медали Российской академии художеств и национальной премии «Лучшая книга 2020 года»).
«ЖИЗНЬ, КАК ТИГРИЦА, ПОЛОСАТА…»
Марине Токаревой
Жизнь, как тигрица, полосата,
То – счастья полоса, то – бед,
Но, может, сбудется когда-то,
Наш тайный сон, наш тайный бред.
***
Какой-то ограниченный
и глупый человечишко
Придумал, будто счастие
Бумажкой обеспечено.
Да можно ль двух оболтусов –
тебя ль, меня ли взять –
Советскими, заморскими,
Хотя бы королевскими
Печатями связать?!
Такое вдруг нахлынуло
– не счастье, а метелица! –
Любимый мой, ехидный мой,
Что любишь, всё не верится.

ОСЕННИЕ ТРЕВОГИ
1.
Раскололось зеркало в нашем доме.
И осколком ранило твоё сердце.
Только мне от тебя никуда не деться!
Плачет рамы провал о далёкой кровле…В ледяного Кая превратился милый:
У чужих лишь окон он ищет радость.
Долгий нежный зов пролетает мимо,
И скупых объятий подморожена сладость.
2.
Словно осы на мед вы несётесь к нему –
Обнимать, целовать и подпеть…
Вам души не понять, вам душа ни к чему –
Вам бы тела спортивного медь!Но тупая подступит тоска-пустота,
Только в игрища пустишься с той,
Что скандалы и промахи грешного дня
Позабыть захотела с тобой.
3.
Меня не ранят ваши оскорбленья.
Вам не понять – отважная душа,
Пятнадцать лет сражаясь с искушеньем,
Однажды всё же им в полон взята.Но знанье мне дано и провиденье:
Любовью покрывая боли след,
Мой милый, совершится возвращенье.
Февральской радостью защищена от бед.
4.
Любовь животворит? Ты прав – она стихами
И книгами твой устилает путь.
Мы алчем большего.Мы просим и не знаем:
В чём промысел – жди? измени? забудь?Сломать легко – нарушить и разрушить,
В ночи оставив плач и женский крик.
Но как потом свою спасти нам душу?
Как в храм войти? Христа безмолвен лик…
***
Я шла к тебе
Сквозь боль и искушенье.
Я шла к тебе…
Мне было всё равно.
Я шла к тебе
Сквозь слёзы и забвенье,
Теряя обручальное кольцо.
И шпили Гданьска подпирали небо.
Песок ласкала серебристая волна.
Ты рядом был, и мне казалось – небыль
Все беды, что случились до тебя.
Ты руку дал, и мы пошли сквозь время,
Роняя в море солнечный опал.
Былых обид легко исчезло бремя,
Лишь только ты меня поцеловал.

ПЕРЕДЕЛКИНО
К.И. Чуковскому
Дорога серая и небо,
Как голубая промокашка.
И луг зелёный-презелёный,
Где белых нет ещё ромашек.Такое Переделкино весной,
Красивое, пахучее, весёлое…
Пойдём, пойдем туда сейчас со мной,
И ты узнаешь, что такое сказка новая.Вот, видишь у дороги эту тропочку?
Вглядись, вглядись – и ты увидишь в миг:
По ней, постукивая тихо тросточкой,
Гуляет удивительный старик.Он улыбается чудесною улыбкою,
А изредка творит он чудеса.
Старик? О, нет. Вглядитесь и увидите,
Что молодые у него глаза.И если он рассредится, рассердится,
Его боится даже Бармалей.
А за спиной его ребята шепчутся:
«Смотри – Чуковский! Дедушка Корней!»
***
Н. Евстигнеевой
Отчего мы иногда тоскуем?
От того ль, что крыльев Бог не дал?
Или чьи-то вспоминает поцелуи?
Счастия непостоянный дар…Отчего мы плачем, ночью плачем?
Мокрую подшку теребя,
Вспоминаем, горько вспоминаем
Тех, кого обидели, любя.Видим дорогую нам улыбку,
Руки дорогие и глаза,
Говорим во сне слова ненужные
Тем, кому сказать «прости» уже нельзя…
НОЧЬ
Ночь туманом речку спеленала
И зажгла ночные фонари
И куда-то быстро убежала,
И никто не крикнул: «Погоди!»Мостик деревянный через речку,
Ты была тут, знаю точно я.
Но, плутовка черноокая,
Не оставила следа.Тебе красок, ночь, не нужно было,
Ты бутылочку чернил взяла
И на землю быстро опрокинула,
Чтоб кругом спрошная темнота.
***
Е.А.Евтушенко
Сцена, пустая сцена…
Нет никого, кроме вас…
Душу мне, душу вырезал
Острый, как лезвие, глас.Вырезал, вырезал, вырезал,
Взял всё, не дал ничего…
Что же такое творится?
Что? Не пойму, отчего?Сцена…И я на сцене
Вам отдаю цветы…
Душу, и жизнь, и розы –
Всё, что хочешь возьми.Рука художника тонкая,
Что многих касалась рук.
Что же… А если, а если…
Нет никаких «вдруг»!

МЕЛОДИЯ ОСЕНИ
Падают, падают листья жёлтые,
По переулку летят, кружась.
И рождают мелодию осени,
В звуки вдруг превратясь.И кто-то большой и сильный,
Вдохновенно тряхнув головой,
Заставляет себе подчиниться,
И, как листьями, кружит тобой…
***
По шумному городу ночь пробежала,
Накинула тихо своё покрывало.
И всё замолчало, и все замолчали.
И только деревья не спали – мечтали…

ЭКЗАМЕНЫ
Экзамены, экзамены…
Тяжёлые слова,
Как стол экзаменаторов,
Как в классе тишина.Скажите мне, ответьте мне,
Придумал кто, когда,
Скажите мне, по чьей вине
Не сплю ночами я?А если же нечаянно
Усну я на часок
Экзамены отчаянно
Стучатся мне в висок.И снятся мне билетами,
Которых я не знаю.
Забыла теорему я…
Задачу не решаю…И вижу двойки тень я,
И слышу голос я:
«Приди-ка, друг мой, осенью,
Поговорим тогда».И просыпаюсь в ужасе,
Тетрадь хватаю я,
Затравлена, измучена,
Опять сижу, зубря.А за окошком – солнышко,
И неба синева…
Ну а на даче в Солнцеве
Давно уж ждут меня!Скажите мне, ответьте мне:
Придумал кто, когда,
Скажите мне, по чьей вине
Зубрю билеты я.И если сдам их завтра я,
Министру напишу.
И всех, и всех экзаменов
Отмены попрошу.
ПОЧЕМУ Я ПИШУ О ЛЮБВИ
Е.Е. Тагер
Почему я пишу о любви?
И насмешек совсем не боюсь,
Потому что стал песнею ты.
Кто не понял – смеётся пусть.Сероглазый и молчаливый,
Ты идёшь от стиха к стиху…
Нет на свете меня счастливей:
Я лишь только смотрю и пишу.Ну и пусть иногда не получится!
Мне так хочется людям отдать
То, что дал ты мне, – самое лучшее.
И для этого стоит писать.Эту веру, что будем счастливы.
Эту радость, что рядом ты.
Не хочу я хранить опасливо.
Потому и пишу о любви.

***
Утром тут облака –
С голубыми глазами,
Тут седая роса,
Орошая слезами,
В серебро красит луг,
И кусты, и крапиву,
Даже солнышко тут
Шутит дерзко над миром,
И бросает пригоршнями
Изумруды, опалы
На тропинки заросшие
И на мокрую траву.
И щекочет лучами
Посиневшую речку
Там, где старые ивы
Удивляются вечно.
И на крышах хохочет,
И на трубах блестит.
И лучом сероглазым
На колодце сидит.
…Там меня разбудили,
Я оттуда ушла
И сегодня туда я
Не вернусь без тебя.
***
Убегают вдаль облезные верблюды,
Серо-белые солончаки.
Темнолицые кругом чужие люди.
От кого ты убегаешь? От любви.В сером небе солнышка не видно.
Где твой сероглазый? Далеко.
Боль приносишь людям – это стыдно.
Любишь – не даёшь ты ничего.В наказанье это имя дважды
Повстречала ты, обоих полюбя,
А затем сбежала ты отважно
От любви, сомнений, от себя.
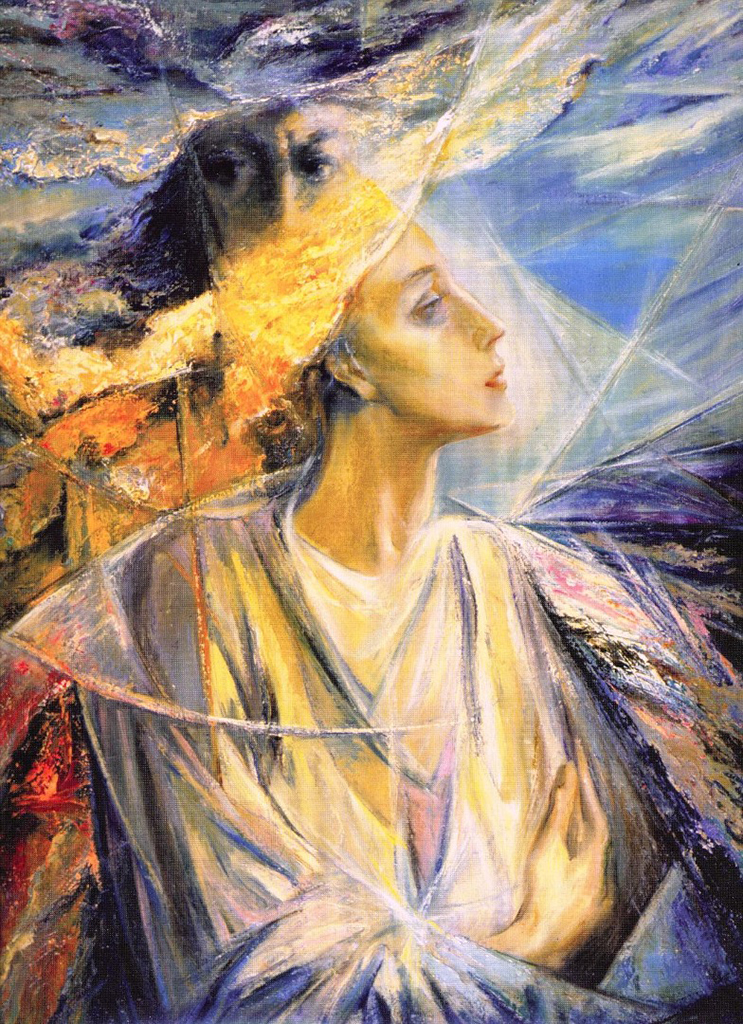
НА ПРОЩАНЬЕ
Разбросает жизнь-насмешница
Влево-вправо нас с тобой…
Но хоть редко, пусть мерещится
Тебе звонкий голос мой.Если трудно, то поможет,
Если грустно, рассмешит…
Ну, а если и не сможет,
Улыбнуться поспеши.Почему-то верю – счастлив будешь.
Как цыганка, знаю точно я:
(Не поверишь или позабудешь?)
Удивительная ждёт тебя судьба.
***
Всё осталось, кажется, по-прежнему,
Только я не верю в чудеса
И не называю лес волшебником,
Да у ржи той скошена трава.А она была такой высокою,
Словно и трава, и не трава…
Радость моя птицею залётною
Упорхнула в чуждые края.
У РЕКИ
Как купалось солце жёлтое
В нашем маленьком пруду,
Как дурачилось, огромное,
Я смотрела поутру.По траве, смеясь, каталося,
Чтобы высохнуть скорей,
И росинками кидалося,
Чтобы было веселей.А потом опять взбежало
В голубые небеса…
На земле ж роса осталась
Да примятая трава.Закружились черти-лучики,
По росинкам – прыг да скок,
Да зелёный луг измучили,
Посерел он, изнемог…Даже если не поверили,
Прогуляйтесь поутру
У реки по беспредельному
И росистому ковру.
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
Почему каждый вечер,
Только солце зайдёт,
Словно маятник вечный,
Я хожу взав-вперёд…Этой улицей узкой,
Где знакомы кусты
И берёзки-подружки
УЖ со мною на «ты».Почему убыстряю я
У дома шаги,
Где все окна открыты
И мелькают огни.Почему этот хохот,
Что донёс ветерок
Из распахнутых окон
Мне заснуть не даёт.И ответы на эти
Тридцать три почему
Почему каждый вечер
Не ищу я, а жду.Жду случайной я встречим,
Только ею живу,
Потому каждый вечер
Здесь хожу и хожу.Чтоб сказать тебе «Здравствуй!»,
Чтоб в глаза заглянуть,
Где хоть нету коварства,
Но легко утонуть…

***
Весенней речкой блеснула радость –
И лёд разбит.
Всё закружилось и засмеялось –
Покой забыт.Нежданным даром судьбы-шутницы
Стал зимний день.
Да это счастье с тобой стучится
В окно и в дверь.Забыты слёзы, и расставанья
Дней долгих нет.
Тебе навстречу – лишь глаз сиянье…
Всегда желанный, входи:«Привет!»
***
А ветер стучал в окошко
И нам говорил сердито:
Ну хоть постыдились б немножго,
Ведь в мире вы не один-то»Ему мы, смеясь, отвечали:
«До мира нам нету дела,
На наши дневные печали
Сегодня наложено вето».
***
Опускается сумрак вечерний,
Зажигаются фонари.
Тихо дождик поет осенний
О ненужной моей любви.Разноцветные листья кружатся
Под сияющим фонарём
И тихонько стереть стараются
Слёзы, смешанные с дождем.
ДОЖДИК
Дождик ходит по крыше,
Дождик песни поёт.
Только он нас услышит,
Только он нас поймёт.Ты чуть слышно, чуть слышно
Подпеваешь ему…
Пробежимся по крышам!
Я тебе помогу.Над вечерним Арбатом
Через нашу Москву
Будто песню тебя я
На руках пронесу.Если ты согласишься
И со мною пойдешь,
За тобой как мыльчишка
Побежит всюду дождь.Он мой старый приятель,
И ему я скажу:
«Любишь? Что ж, не ревную –
Я ведь тоже люблю».
РАСКОЛДУЙ!
Показалось – нету больше клетки,
Я свободна раз и навсегда.
Ты расколдовал меня, и это
Просто счастьем стало для меня.Мне не ждать улыбки, как подарка.
Мне не приникать к твоим губам,
Но зато сама себе хозяйка,
Никому я сердце не отдам.И казалось: руки – это крылья.
Захочу и просто полечу.
Мне никто не страшен – он ли, ты ли…
Никого я больше не хочу.Вдруг опять пришёл… И снова, снова
На руках меня унёс туда,
Где любовь, волненье, слёзы, горе
И откуда еле я ушла.И опять – улыбка мне подарок.
И опять я, кажется, люблю…
Я – рабыня, ты же – мой хозяин.
Расколдуй! Лишь об одном молю.

***
Любовь… Она не спрашивает время:
Прийти? Уйти? А, может, подождать?
Она приходит и приводит племя
Безумных, сумасшедших чертенят…Да разве виновата я, что ныне
Нет мира, дома, мамы у меня?
И что на целом свете лишь родные
Желаньем, синью полные глаза!
***
Наваждение, наваждение…
Это чудо весны в январе,
И всемирное землетрясение,
Происшедшее только во мне.Стало всё вокруг перевёрнуто:
Ты, раздвоенный как под пилой,
И глава мои, так невовремя
Засветившиеся тобой.Рядом – тонкое девичье личико,
Эти острые локотки…
Мне б спокойного безразличия,
Будто двое нас – я и ты.И счастливо, и странно, и больно так!
Всё бы бросить – лишь крыльев взмах,
Но любовь моя птицей пойманной
Бьётся в жизни цепких сетях.
ЖИВЫЕ МЕЧТЫ
На обрывке листа,
На простой промокашке
Рисовал города
И волшебные башни.
И писал о любви
К королевне прекрасной,
Что одна взаперти
В старой каменной башне.
И за ней на коне
Он скакал и скакал,
Но по чьей-то вине
Не успел, не догнал…
Отложили мальчишки
В сорок первом году
Папки, ручки и книжки
И ушли на войну.
До сих пор королевна
В старой башне одна:
Нет мальчишки не свете,
Но осталась мечта.
А теперь, я скажу вам,
Не боюсь, что умру,
Вдеь оставлю живыми
И стихи, и мечту.
А в стихах я живу,
И смеюсь, и грущу.
Бестолково люблю
И о чём-то молчу.
И, читая, быть может,
Хоть один из двухсот
Погрустит, улыбнётся –
И услышит, поймёт.
Художник Наталья Баженова
