ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
 https://www.edu.severodvinsk.ru/
https://www.edu.severodvinsk.ru/

https://www.edu.severodvinsk.ru/
РОМАН ТИШКОВСКИЙ
ПОСЛЕ ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ
И всё же – театр переломил. А ему оставалось – только смириться. Да, конечно, чувства их, желания и надежды разрастались и ветвились. Но чего больше – блуждающих огоньками побегов или отживающих и уже усохших веток, что ломались и превращались в тлен, – было неясно.
Он вспомнил, как впервые они столкнулись у входа. Глаза взметнулись и опали, осыпались. Но что-то, что даёт обычно толчок свежему, новому родничку, оживило их, опалило. Да, их – его и её. Он мог так утверждать за неё, потому что после она признавалась в том же.
У них оказалось столько общего, близкого, столько невысказанного, хотя и обдуманного наедине с собой, что можно было бы – говорить и говорить.
Он боялся предложить уехать с ним – в Нежинске не было театра. Хотя, что ей театр – костюмеру? Раздать костюмы, собрать. Сменить костюмы, подшить. Отдать в стирку и забрать назад. Отгладить и развесить по местам. Знать, что наденет Рагозин во втором акте и что Петровичу – сапоги малы. Да, кстати, и сапоги надо отдать в ремонт – каблуки стесались.
Знать, в какой очерёдности потребуются трико, и где они висят, а те, голубые, что с прожилками серебром, пора и подштопать…
Но ей по душе была эта работа. Она ею жила, исполняла быстро и неуловимо точно.
Она рассказывала по случаю множество историй об артистах и их знакомых, о рабочих сцены и о таких же костюмерах, как она. Всё у неё звучало доброжелательно и не казалось нудным. И они безмятежно смеялись, представляя себе в картинках шутки и шалости близких ей и ставших известными ему героев её жизни.
Было так хорошо, как должно быть в таких случаях, и шло своим чередом. А он так и не решился пригласить её в Нежинск. Но она знала, когда ему уезжать, и недели за две до отъезда сказала, что согласна оставить театр и ехать с ним.
И что бы ни предсказывал он, – всё неверно! Костюмами можно заниматься и в Нежинске. Шить, например. А ей и ему должно быть очень-очень чудесно. А в театр можно будет наведываться время от времени, словно в гости. Или – как на праздник. И любит она не театр, а его, только его, а поняла это лишь теперь. И от этого, впервые так открыто и непринуждённо выскользнувшего признания, обоим стало ещё радостнее и теплее.
Хотя, правда, если быть справедливым, где-то глубоко-глубоко внутри, уж не в пятках ли, что-то, похожее на испуг, зарябило мелкой дрожью, и тут же растворилось в той беспечной солнечной успокоенности, что объяла их своей неподкупностью…
Больше об этом они не говорили, в положенное время уехали в Нежинск, и городок пришёлся ей по душе.
А если попытаться разъять дни и ночи их совместного, общего года, это вряд ли получится. Год этот, что говорится, прозвенел стрелой – вскинули вслед глаза, а стрела аукнулась и затихла, растаяла. Тишина кругом. Такая пронзительная тишина!
И эту тишину он ощутил всею кожей, когда вбежал, неожиданно задержавшись, домой, а она застыла у окна, опустив вздрагивающие плечи, вглядывалась в неясную даль и молчала.
Ему открылось, что пришло время съездить ей на день-два в театр. У него не могло получиться из-за работы, и он предложил ей съездить одной, отпросившись из ателье.
Она стала упираться, а потом, улыбнувшись чему-то, всё-таки согласилась. На день-два – не правда ли? И прильнула к нему.
…Когда, наконец, он смог оторваться от этой проклятой работы, чтобы отлучиться из Нежинска и повидать её, прошло не два дня, а два месяца. Он не раз звонил ей домой, но трубку не брали, а в театре – её не могли почему-то найти.
Теперь же, освободившись ненадолго, он уехал из Нежинска, чтобы рано утром быть на месте. Но рано есть рано, и он с удовольствием, чтобы поразмяться, побродил по городу. А может, подспудно побаиваясь появиться к ней. Неизвестно, как всё могло обернуться.
Время тянулось и тяготило. А тут ещё зарядил дождь. Он зашел перекусить и натолкнулся на кинотеатр. Что-то утомительно двухсерийное затемнило голову, а когда он вышел из зала, было темно и на улице.
К театру он подошёл ко второму действию, работать ей не мешал, дождался конца спектакля. И они молча, не говоря почти ни слова, будто не было этого стрелой взметнувшегося года и этих двух молчаливых, точно раненых тяжело месяцев, – они молча шли по бульвару. Тусклый свет фонаря метнулся в их сторону, осветил кусты увядающей зелени и чёрной полосой лёг на её фигуру – она была в напряжении.
И тогда он горько произнёс, что случилось, как он и предсказывал. Она же, глянув молча в лицо, ничего на то не сказала, помедлив ещё, повернулась и пошла – пошла одна, в темноту.
И его точно толкнуло что в сердце от вида этой темноты, её опущенных плеч и всей неуверенной походки. Но он так и остался стоять.
АХ, МОРЕ!
«Ах, море! – повторяла она, поигрывая круглым голосом и слегка грассируя. – Ах, море! Это такая прелесть… Такая радость…»
Она вскидывала лёгкую голову, и волосы скрадывали нелепый налёт бледности на лице и шаловливо стекали за вырез.
«Ах, море! Вы никогда не были на море? О! Поезжайте, поезжайте непременно. Это так прелестно», – и голос округлялся ещё заметнее.
Мы были молоды, она со мною почему-то на «вы», я же – безалаберно «тыкал». Её морские беседы считал бравадой, а значит, – глупостью, и это нередко раздражало.
«Слушай! А давай поедем! Всё бросим и поедем. Ну что я! Виноват, что ни разу не видел моря?»
«Конешно, конешно, – неслышно останавливала она точно неживою рукой. – Как-нибудь… И мы будем кататься с вами на волнах. И разглядывать ночами трепетную лунную дорожку, и провожать её за горизонт! Особенно, если полная-полная луна.
Таинственно мерцает галька, шуршит оползающий от волны песок… Ах, море! Это такая прелесть!»
Иногда, странным наплывом, казалось вдруг, что она, многое повидав, живёт на какой-то непонятной, загадочной, и очень-очень далёкой земле, докуда и не добраться. А так хотелось поехать с нею на море!
Разговор повторялся – и с новыми, не слышанными ранее подробностями. Повторялся неоднократно. Случился и сегодня.
А через неделю – начинались мои командировки.
* * *
Через несколько дней начались командировки. Уйма нужного и неожиданно интересного, но изматывающего вконец. И время сжималось, как бы спрессованное в брикеты. Вставишь такой вот брикет в кассету времени, и сразу всё перед глазами. Быстренько пересмотришь – и на тебе повторение давно-давно прошедшего. И тогда – я появлялся у неё.
Я появлялся у неё, брал за воздушные руки и смотрел в светлеющие глаза: «Слушай! Давай всё бросим и поедем на море. Куда ты хочешь?» – Я видел море её глазами так явственно, что плавал в нём, словно во сне. И лёгкость моего будто сонного тела словно равнялась её невесомости…
Однажды я поднял её на руки и закружил. Я закружил, а она прикрыла глаза и положила голову на плечо. Волосы захлестнули тягучей волной и щекотали ноздри. Странно, но я почувствовал запах моря, не ведая, как пахнет оно наяву, и словно ощущая его своею кожей…
«Едем-едем! А? Ну что ты?!» – Мне сдавило горло. Я чуть не закашлялся.
Она медленно открыла глаза: «Ну, всё, всё, милый, хватит, – лицо было белым. – Нет, милый мой. Мы не поедем. Мне просто нельзя туда… Врачи… – Она споткнулась на последнем слове. И, словно извиняясь, добавила: Я ведь никогда не видела моря. Просто придумала. Прости, милый, но так хотелось представить его. Ах, море!..» –
Очередная командировка ожидалась на юг, и я смутился.
* * *
Очередная командировка была на юг.
«Я тебе всё расскажу, – твердил я. – Всё до капельки. До галечки. До ракушки. Хочешь, привезу полную канистру моря?!» –
Она притихла. Так, наверно, бывало тихо, если волна закладывала уши…
Через несколько дней я уехал. И ещё издали, увидев море, это таинственно мерцающее пространство, растворившееся в небесной лазури, бросился к автоматам позвонить.
Во мне, ещё совсем-совсем неосознанно, зрела неудовлетворённость увиденным: жившее во мне ожидание было ярче, поэтичнее, совершеннее, наконец. Но об этом подумалось позже. А тогда – я рванулся к автоматам – позвонить, сказать, рассказать, узнать… И – опоздал.
Я – опоздал.
Откуда-то со стороны, не из нагретой трубки, а из серого железа автоматного ящика, дошёл до меня неузнанный голос её мамы, просипевший, что вчера похоронили…
Я – опоздал. Время разваливалось. Брикеты рассы́пались.
А она – словно уплыла в моё неразгаданное будущее. Нет! Не в это море, где волна была гиблой и тусклой, и отвратительно тянуло водорослями. Не в это море, потерявшее для меня прелесть вечного величия.
Ведь человек дышит мечтами о будущем и доживает воспоминаниями о прошедшем! И теперь, если приходится ехать на свидание с морем, делаю это тяжело и неохотно. Море не стало для меня символом вечности.
И когда я вхожу в призрачную дорожку, прочерченную зыбкой луной, мне слышится круглый, слегка грассирующий возглас: «Ах, море!» И мысленно отвечаю: «Знаешь! А ты ничего не потеряла, что не видела моря. Море – как море. Ничего особенного…»
г. Москва
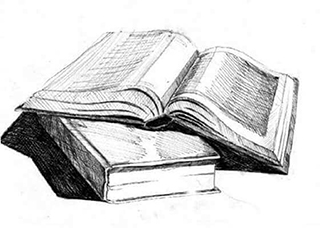
ТАТЬЯНА КАМАЕВА
МОЛОХ ВРЕМЕНИ
Алину решили убрать, как ненужную вещь, как лишнего свидетеля, в тот день, когда, не зная этого, каратистки избили её в лесу.
Алина, обладательница чёрного пояса, была для соперниц, как заноза, которая засела глубоко и неприятно напоминала о себе. Они много раз пытались поговорить с ней, завести дружбу, но натыкались на стену молчания. Девушка была сдержана и предусмотрительна. Детдомовская жизнь научила не доверять, не жаловаться, не просить – каждый сам за себя.
Сговорившись, спортсменки решили наказать Алину. Они подсыпали ей в бутылку с водой снотворного, вывезли в лес, а когда та стала просыпаться, хотели немного проучить, но наносить удары по живому телу было так заманчиво, что каратистки перестарались. Они били жестоко. Алина долго противостояла им и не оставила бы ни единого шанса, если бы не снотворное…
После очередного резкого удара ногой в лицо она потеряла равновесие и упала. Получив ещё несколько ударов, девушка больше не поднялась. Её, покалеченную, бросили в лесу.
Стояла затяжная зима. Сопротивляясь весне, она сыпала снегом, посылала стужу и жалила морозом. Холод забирался под одежду, в рукавицы, под шапки и больно кусал лицо и уши. Он заглядывал в каждую дырочку и щелочку.
От холода Алина очнулась. Попыталась крикнуть, но с трудом открыла рот. Сплюнув кровавый комок, поняла, что кричать и звать на помощь не может.
Приближалась ночь. Нестерпимая боль пронизывала тело, потом боль стала утихать и совсем отпустила. Алина замерзала, всё внутри наливалось приятным теплом, веки становились тяжёлыми, и хотелось только одного – спать.
Над ней склонилась тень.
– Кто ты? – удивилась Алина.
– Я – твой Ангел-хранитель. Я постараюсь уберечь тебя от той, что стоит за моей спиной.
– А кто за твоей спиной? – Алина увидела старуху, которая смотрела ей в глаза.
– Это неустанная работница Смерть. Она ждёт твоего часа…
Близко послышался собачий лай.
– Не люблю собак, – проскрипела Смерть и отступила на два шага.
– Я всегда буду рядом, – сказала тень, порхая над девушкой.
– Противное животное, – ворчала старуха, – не дала поживиться.
Смерть выругалась, отвернулась и убралась восвояси.
Вскоре Алина ощутила тёплое дыхание. «Лора, ко мне!» – раздалась команда. Собака заскулила, повернулась к хозяину, но первый раз ослушалась. Собачье сердце чувствовало, что человек, который лежит под снегом, попал в беду.
Это невероятно, но врачам удалось отвоевать Алину у Смерти. Два месяца они боролись за жизнь девушки: резали, зашивали, потом опять резали и снова зашивали. Три раза она была между Ангелом и Смертью. Но время и молодость постепенно возвращали её к жизни. Ни говорить, ни писать Алина не могла, но способность думать, анализировать и делать выводы у неё никто не отнимал.
Она мысленно благодарила собаку, которая нашла её. Почему-то в голову лезла знакомая фраза – « собака – друг человека».
«Нет! В теперешней жизни, – размышляла Алина, – можно сказать, что собака лучше человека. Ей не знакомо чувство зависти и ненависти. Она не предаст, а тем более не продаст. Собака бросится за хозяином в огонь и в воду. Ей всё равно, богат ты или беден. Она простит, если её обидели сгоряча, и преданно будет охранять дом и спокойствие обидчика. Она способна отдать жизнь, защищая хозяина. Собака не бросит, не забудет. А человек может оставить её в аэропорту, если не пустят с собакой в самолёт из-за какой-то справки, бросить на вокзале, только из-за того, что второпях забыл дома намордник. Или, наконец, выбросит своего друга на улицу за ненадобностью. Собака не поймёт, что её предали, и долго будет ждать хозяина, отказываясь от пищи и воды. Ведь собачье сердце может любить и страдать, а глаза плакать от обиды или светиться радостью».
Размышления прервал следователь, пухлый, похожий на небольшой бочонок, который словно вкатился в палату. Подвинул стул ближе к кровати, волоча его за спинку, удобно уселся, словно на трон. С важностью судьи он раскрыл папку и стал задавать вопросы, на которые Алина сама хотела найти ответы. Она закрыла глаза и отвернулась.
Разве она могла ему рассказать, что воспитывалась в детдоме, а потом в интернате, куда её с братом определили после лишения матери родительских прав. Что после девятого класса Тамара Игнатьевна, которая опекала Алину последний год (приносила подарки, гуляла в парке, покупала одежду и еду, расспрашивала о родных и близких), предложила ей поступить в Московский архитектурный колледж на дизайнера.
Женщина помогла Алине снять комнату в Москве и оплачивала её, хотя девушка могла жить в общежитии. Хозяйка квартиры, располневшая, с хитрым взглядом, вечно была чем-то недовольна, но Алина так была рада свободе, что не обращала внимания на ворчливую старуху. Чтобы меньше находиться с хозяйкой, Тамара Игнатьевна посоветовала Алине пойти на курсы английского языка и продолжить заниматься каратэ. Обещала помогать ей деньгами и держала слово, только всегда просила подписать какие-то бумаги. Говорила, для отчёта. Алина не придавала этому значение и, не чуя беды, радовалась жизни.
Шло время, и день за днём из неказистой девочки она превращалась в красивую стройную девушку. У неё были густые всегда аккуратно причёсанные волосы, выразительные глаза, длинные ресницы не нуждались в подкраске, пухлые губы не портили её маленький рот, и естественный румянец красовался на чуть вытянутом лице.
По ночам, когда Алина принадлежала только себе, она мечтала о красивой любви, её воображение рисовало картины будущего. Ей хотелось иметь большую дружную семью. Решила разыскать мать и брата. С такими мыслями она засыпала.
А утром снова закружит московская карусель, как кольцевая линия метро, и течёт её жизнь по кругу.
Как-то Алина задержалась на соревновании с японцами, после которого была пресс-конференция и фуршет. Добралась домой под утро. У подъезда её догнал мужчина в тёмных очках и стальным голосом без чувств и эмоций произнес:
– Если ещё раз не придёшь ночевать, то найдут тебя в лесу без признаков жизни.
– Что вам надо? – Алина не испугалась, а наоборот, привыкшая всегда защищаться сама, пошла навстречу.
– Настанет время, узнаешь, – на его лице не дрогнул ни один мускул, как будто он эту фразу повторял тысячи раз.
И Алина, наконец, задумалась. Не имея жизненного опыта, она была уязвима и беззащитна. У неё не было друзей и близких, с кем бы могла поговорить или посоветоваться. С утра до обеда училась, потом тренировалась. Занималась английским. По выходным постоянные походы с Тамарой Игнатьевной по выставкам, в театры или музеи. Она уже привыкла, что та почти каждый день встречала её у колледжа и провожала до двери, как будто перепоручала злой старухе. Заводить друзей просто не оставалось времени.
Алина стала догадываться, что ей придётся платить по счетам. Но когда и как? Несчастная девушка не могла себе даже представить, что уготовили ей люди, опекавшие её. Расплата пришла неожиданно.
Девушка запомнила этот вечер навсегда. Когда она вернулась домой после очередного посещения театра, старуха, молча, проводила её в комнату и открыла дверцу шкафа, Алина увидела очень дорогую одежду.
– И что это значит?
– А это значит, что ты приступаешь к работе, – заявила хозяйка.
– Так это ты доносила на меня? – догадалась Алина.
– Помолчи, – спокойно ответила та.
– Три года следила за каждым моим шагом! Старая стерва, – не сдержалась девушка.
– Советую следить за словами. Если бы это услышал … – она осеклась.
– И что было бы тогда?
– Сделали бы из тебя проститутку! – с ехидной усмешкой пояснила старуха, показывая свои вставные челюсти, которые неприятно шевелились во рту и лязгали.
– Проституткой, так проституткой! Оставь меня. Я хочу спать, – вызывающе бросила Алина.
– Смотри, не пожалей. Я пошла, доложу.
Алина на миг задумалась, а затем спросила:
– Что за работа?
– Слушать, и делать, что прикажут.
– А если прикажут убить?
– Никаких вопросов! Всё, что надо тебе знать, ты будешь знать.
Ей предстояло, как бы случайно познакомиться с французом, который прилетает в Москву через два дня. Пригласить его на встречу, куда ей укажут.
– Всего-то и делов. Вот его фотография, – пролязгала старуха.
– А потом что с ним будет?
– Какое твоё дело. Ты о себе заботься.
– А учёба?
– Сделаешь. И учёба будет, и жить будешь.
– А не получится?
– Получится! – Повернувшись к двери окинув её взглядом, ухмыльнулась хозяйка,– Рядом с тобой будут наши люди. Ты согласна? Что молчишь? Не слышу!
– Да, – вымолвила Алина.
– Так я пошла звонить.
Тогда она не могла даже представить, что стоит за этим маленьким словом – «да». Не знала, что платить придётся по самой высокой цене.
Алина вспомнила слова, которые любил повторять директор интерната, рыжий, всегда пахнувший потом, мужчина: “Человек, совершивший подлость один раз в жизни, подлецом умрёт”. При этом он поднимал указательный палец вверх и становился таким важным, как будто сам придумал это. Потом на каблуках резко разворачивался к двери, выходил… Затем неожиданно открывал дверь и басил:
« Запомните, подлость исправить нельзя!»
И она совершила эту подлость: познакомилась с тучным французом, русского происхождения, фотографию которого хорошо запомнила. В Москве несколько раз встречалась с ним в гостинице, но близости не допускала. Это заводило француза ещё больше. Терпение его было на пределе, когда Алина сказала:
– Я не могу в гостинице, пойми.
– Девочка моя, укажи мне место. Я примчусь хоть на луну, – он нежно обнял её и шепнул, – но лучше назначь мне свидание на земле.
Это свидание было последним. Больше Алина не видела его.
Наивная, она думала, что рассчиталась за всё. Но её заставляли снова и снова совершать подлости. Учёбу она вынуждена была бросить, но продолжала оттачивать мастерство по каратэ, изучать живопись, музыку, ходить с Тамарой Игнатьевной на презентации, встречи, где знакомилась с “нужными” людьми.
Всё чаще она стала задумываться, как вырваться из этого порочного круга? Кого призвать на помощь? Кому довериться? Но не находила таковых. «Вот был бы рядом брат». Она не знала, что из этого круга нет выхода.
Не знала, что у её хозяев всё было предусмотрено. Они наладили поток по доставке красивых и образованных «подружек» для состоятельных людей. Воспитывали, обучали жён для олигархов, политиков, бизнесменов и просто для тех, кто в состоянии был заплатить. Могли за деньги убрать или разорить конкурента, собрать компромат на человека любого ранга и, наконец, за очень большие деньги могли убить. Таких, как Алина, брошенных на произвол судьбы, использовали в своих грязных целях, и, как правило, после нескольких заданий убирали…
– Привет, сестрёнка! – услышала Алина незнакомый голос, она повернулась и увидела, как в палату вошёл молодой человек в чёрных очках с цветами и фруктами в руках.
– Больной можно пока только соки и бульоны. Цветы отдайте санитарке. На посещение десять минут. – Сказал строго врач и вышел.
– Кто это тебя так отделал? – сходу спросил посетитель.
– Я ничего не помню. Очнулась в лесу, меня нашла собака…
– Эти сказки рассказывай следователю. Мне нужна правда.
– Но это правда! И другую я не знаю.
Вошла санитарка, поставила цветы на тумбочку и сказала, что больной пора делать капельницу.
– Ну, выздоравливай. Я скоро ещё наведаюсь к тебе, сестрёнка, – громко сказал незнакомец, нагнулся, делая вид, что хочет поцеловать её в щёку, а сам шепнул. – Смотри, не говори лишнего.
Алина закрыла глаза и вспомнила своего настоящего брата. «Где он сейчас, чем занимается, как устроился в этом безумном мире?».
В мире, где не осталось у людей общих идеалов, пропал интерес к духовным ценностям. Раньше, чтобы попасть в театр, на концерт, в оперу или Третьяковку, надо было выстоять целый день за билетом, а то и всю ночь. А посмотреть выставку Алмазного фонда или Оружейной палаты – это было пределом мечтаний.
Сейчас музеи пустуют, театры заполняются наполовину. А уж про литературу и говорить больно. Перестал народ читать настоящую классику. В писатели полезли дилетанты, пишущие дешёвые детективы и пошлость, а настоящее русское слово осталось на задворках. Страшно подумать, что может статься с поколением, которое не слушает хорошую музыку, не посещает театры, не читает достойное … Поколение без идеалов вырастет бездушным, глухим и слепым. Если нет общих идеалов – нет народа!
Вот и Алина с братом попали под этот молох времени. Она с раннего детства несла ответственность за младшего брата. Мать часто бросала их дома одних. Алина старалась успокоить вечно голодного Вовку, строила под столом «домик», натягивая между ножками сизую простыню. Насыпала в тарелочки сырую крупу, макароны, наливала подсоленную воду в рюмки и устраивала пир. Они чокались, выдыхали воздух, выпивали залпом солёную воду, морщились, как это делали дяди и их мать, «закусывали» и горланили песни. Ей было шесть лет, а ему – три. Ничего хорошего больше она не могла придумать, игрушек у них не было, даже бумаги с карандашами мать не могла купить детям, всё пропивала. Пьяная водила в дом мужиков, тогда дети засыпали прямо под столом. А утром Алина украдкой подбирала со стола куски хлеба, недоеденную селёдку и кормила Вовку. Он был прожорливым, и Алина часто оставалась голодной.
Она и в детдоме, и в интернате подкармливала его конфетами и булочками, которые прятала в портфеле. Как ей самой хотелось сладкого! Но Алина бежала на переменке к брату в класс, на ходу разворачивая конфеты, кормила его с рук, чтобы никто не смог отобрать. Если же Вовка жаловался, что его кто-то побил, то Алина давала такую оплеуху обидчику, что у того сыпались искры из глаз. Она учила брата стоять за себя, ведь заступников у них в жизни не будет. И Вовка постепенно стал сам давать отпор задирам. Он каждую свободную минуту занимался своим телом – качал мышцы, отжимаясь от пола, приделал к ботинкам железяки, чтобы укрепить ноги. Теперь его стали побаиваться и не трогали.
Как Алине хотелось увидеть, каким он стал. Ведь не видела брата с тех пор, как тот сбежал из интерната после её отъезда.
Она твёрдо решила, когда выйдет из больницы, найти брата и мать. Он, наверное, не узнает её. «Вовка, родной мой, где ты? Что с тобой стало?» – шептала она, вытирая набежавшие слёзы.
Алина не знала, печалиться или радоваться своему изуродованному лицу. Она не подозревала, что участь её предопределена…
И вот наступил долгожданный день. Алина выходила из больницы с уверенностью начать новую жизнь. У дверей девушка попрощалась с медсестрой и сделала шаг навстречу весне.
Тёплый ветерок обласкал рубцы на лице, коснулся коротких волос. «Отрастут!», – улыбнувшись ветерку и солнышку, сказала она и, прихрамывая, стала спускаться по лестнице.
А в противоположном доме у окна притаился убийца, который должен «убрать» уже не нужную никому беззащитную девушку.
Почему после того, как «добрые» дяди и тёти лишают родителей прав на детей, они, разместив этих самых детей по приютам, детдомам и интернатам, забывают о них и больше не интересуются девочками и мальчиками, судьбами которых так лихо распорядились?
Весна поднимала настроение и тягу к жизни. Алина сделала шаг, затем ещё, и наёмный убийца, спустив курок, узнал в жертве свою сестру. «Алина», – прошептал Вовка. «Мама», – вырвалось с губ Алины. Такое родное и такое незнакомое ей слово. Жизнь, как на экране пронеслась перед её глазами: пьяная мать, вечно голодный брат, которого она носила на руках, потому что тот долго не умел ходить и говорить. Вот брат ревёт, когда её увозят из интерната.
– Забери меня! Не оставляй! – кричал он ей вслед.
– Вовка, я заберу тебя.
– Я каждый день буду ждать, – сквозь слёзы бубнил Вовка. Но на следующий день ввязался в драку, покалечил обидчика и сбежал.
Скитался по вокзалам, искал сестру. Потом согласился за кожаную куртку и десять тысяч убить человека. Так и стал профессиональным убийцей.
«Вовка…», – шептала умирающая Алина.
Тот по губам понимал, чьё имя произносит его сестра, единственный человек, который заботился о нём, отдавал лучшее, а иногда и последнее. Он смотрел в прицел, и его душа кричала: «Прости!»
Жить не хотелось…
г. Москва
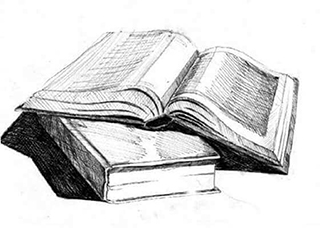
ЯКОВ ШАФРАН
ЧУДО, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
В этот светлый, мягкий майский день сочно и молодо зеленела растительность, ясным взором голубело глубоко прозрачное — только кое-где с легкой в вышине дымкой облачков —небо и солнце ласково глядело на землю и на нежные, курчавившиеся барашки белых облаков над горизонтом, между которыми виднелась синева. Вдали, над полями, вернее, над тем, что раньше ими было, над солнечной далью молодой травы, струился легкий пар. Потому ели за полем будто вибрировали и, казалось, как дети, стараясь быть выше, своими сине-зелеными макушками тянулись ввысь к небу, к солнцу. Все было наполнено юной свежестью, вибрациями юной энергии, только что появившейся на свет жизни.
Но вот солнце зашло за невесть откуда появившееся, шаловливо набежавшее небольшое облако, и все цвета стали гуще имягче. В этот момент и шоссе повернуло, и взору открылся большой пруд, который окаймляли хвойные деревья. Вновь выглянувшее солнце, словно кокетливо глядясь в зеркало, ярким блеском отразилось на его ровной водной глади. А дальше за прудом начались богатые дачи, за высокими и надменными оградами которых, подобны молоденьким девушкам, охраняемым заботливым отцом, цвели яблоневые сады, кусты белой и всех оттенков лиловой пышной, грузно свисающей сирени, тонко-сладкий аромат которой через открытое окошко обильно проникал в салон автомобиля.
На заднем сиденье, понурившись, держа руку на животе и постоянно пытаясь хоть немного изменить положение тела,— как это делают испытывающие сильную боль люди,— сидел человек и взглядывал на всю эту, проносившуюся мимо него и слева и справа, красу. Однако по выражению лица было видно, что она не радовала его. И действительно, плохое настроение не оставляло Ивана Ивановича Степанова все последние дни, да и было от чего. Мысли его неуклонно возвращались к тому, что, возможно, предстояло в недалеком будущем.
Степанов был человеком не то что обеспеченным, а, прямо скажем, богатым. Автосалоны, оптовки и склады в нескольких подмосковных городах хоть и жили своей, когда-то заведенной жизнью под управлением «смотрящих», и давали его семье по нынешним временам большой доход, но требовали неустанного внимания самого хозяина. Доход-то, конечно, если сравнивать с прошлым, которое он захватил своею юностью и молодостью, и вовсе космический. Жена и дети довольны, как сыр в масле катаются. В этом пенять на судьбу и печалиться Иван Иванович не мог. Правда, не все вспоминать — каким образом он пришел к такому достоянию,— он любил и научился вытеснять из своего сознания многие прошлые дела, думая только о будущих прибылях. Ведь, как известно, чем больше хозяйство, тем больше вопросов по нему возникает —то одно, то другое нужно решать, единолично и оперативно. Коллективного руководства он не признавал, замов не имел, Валентину к своему большому хозяйству никогда не привлекал — потому она в нем ничего не смыслит, а теперь и некогда учить,—все решал сам. Для всего этого же нужно хорошее здоровье, много здоровья, оно и всегда нужно было, но сейчас, когда затраты и расходы по тем или иным причинам растут, проверок становится все больше и наезды все чаще, и подавно. А тут эта неотступная болезнь совсем некстати. Да и когда болезни кстати?..
До сих пор у Степанова никаких проблем с самочувствием не возникало. Каждое утро он в любую погоду под открытым небом и легко одетым не менее тридцати минут делал энергичную физзарядку— на работе вечером еще и на тренажере занимался,— бегал трусцой по живописным окрестностям своего трехэтажного дома – дворца и плавал в холодной, из водопровода, двенадцатиградусной воде в домашнем бассейне. Вполне достаточно для человека пятидесяти пяти лет. И с женой, Валентиной, полноправной хозяйкой всей усадьбы — она и оформлена на нее,—у него всё хорошо, та живет в свое удовольствие, радуется его физической форме и молится на своего благодетеля, освободившего ее от труда зарабатывать на жизнь, в отличие от школьной подруги — работающей, правда, на фирме своего мужа. Да и в интимном плане у них, как говорится, на все сто, тоже нормально, дай бог так и дальше. Дети – сын и дочь —воспитаны, устроены, обеспечены, забот не доставляют, гордятся своим богатым отцом — современным спортивным мужчиной и часто наезжают, радуя родителей, в их родовое поместье. И отдыха ему вполне хватало: на рыбалку ездил с друзьями, но без жены, на весь день, а то и ночь прихватывали — хорошо поспать на природе — отдохнуть от рабочей и домашней, хоть и приятной, но суеты; в московский театр на премьеру — но уже по семейной традиции с Валентиной; пару раз в неделю — к любовнице, Оксане, которую он также полностью содержал, но в соседнем городке (жена, слава богу, не знает); в баньку корпоративную с «друзьями-капиталистами» попариться с березовыми веничками да с девочками… Все как было заведено ишло по накатанной колее. Правда тут заморочка одна возникла — мода пошла,— стали коллеги-бизнесмены возводить кто храм, кто церквушку, кто часовенку и обихаживать их, как детей своих, как будто у них ни жен, ни детей, ни любовниц нет— каждый, конечно, по средствам. Ну, бог им в помощь, как говорится, но и ему видно придется, заняться этим, иначе «со свету сживут», а на это нужно время и траты денежные… Да и здоровье…
А тут с некоторых пор какая-то ненормальная жизнь началась у него, ничто не радует — вот хоть и эти красоты пейзажа… Боль в верхней части живота последние две недели измучила его донельзя, не отпускает ни на минуту и отдает во все стороны,уж не до дома с усадьбой, недо любовных услад и похождений на стороне, не до бани, не до работы и спектаклей, не до физкультуры с рыбалкой. Язва?.. Рак?.. Что ждет его? И что будет с его бизнесом, кому он достанется? — Дети ведь тоже не приспособлены к нему… Была у него лет пятнадцать тому назад язва желудка со всеми побочными явлениями, но удалось залечить все… Думал опять из-за нервных перегрузок началось, Валентина покупала и заставляла его пить те лекарства, которые помогли тогда, потом новые, более современные, меняла их на другие, однако… Сын и дочь пока, правда, ничего не знают. А болит, все болит, будто зверь какой когтистой лапой вцепился в его нутро, тянет и не отпускает, тащит его в темную неизвестность, где нет и никогда не будет ничего родного, такого привычного…Иван Иванович снова глотнул коньяк из бутылки, которую, уже наполовину пустую, держит в руке. На первых секундах снимает, но после опять начинает болеть.
Глухая, темная тоска прочно поселилась в душе у него в последнее время. Валентина, друзья и сотрудники заметили, как он сильно осунулся, пожелтел, глаза запали. Оксана из соседнего городка все звонит на запасной сотовый, переживает, что давно не приезжал, скучает. Жена вспоминала проявления язвы его тогда, пятнадцать лет назад — говорит, многое напоминает, однако он чувствует, что никакого сравнения. Кроме сильной боли и симптомы-то все нехорошие в своей совокупности: сильная утомляемость, слабость, бессонница ночью и сонливость днем, нежелание есть, частая тошнота и уплотнения в подмышках — наводили на мысли.
И никакого отдыха нет ему ни днем, ни ночью, никакого отвлечения и расслабления…
Тяжелые и назойливые мысли эти, бередя душу, а также твердое настояние Валентины, привели Степанова к врачу, пользовавшемуся у них в городе хорошей репутацией, на консультацию. А тот, сложив, умножив-перемножив все услышанное от Ивана Ивановича и увиденное своими глазами, подтвердив опасения жены, порекомендовал провести обследование в онкоцентре на Каширке, чтобы исключить самое опасное, что может быть, добавив: «Ведь вам средства позволяют». При этом уголки губ его чуть заметно дернулись.
Да, средства Степанову позволяли, и вот он, бросив, наконец, все дела, не сказав ничего детям — так они решили с Валентиной,—заранее оговорив все вопросы с врачом Центра по телефону, едет туда. Что-то будет?..
В Москве Иван Иванович, зная, что процесс будет долгим, но, не желая для обследования ложиться, на время снял квартиру — у Курского вокзала ему приглянулась интеллигентная женщина с табличкой — и отпустил машину. С утречка он, без сна промаявшись всю ночь, натощак,— да и какая тут еда,— направился в Центр.
Побывав на приеме у врача, и оплатив все, Степанов получил кучу направлений — одной только крови четыре анализа, плюс еще анализ мочи, исследование образца тканей и установление — доброкачественная или злокачественная опухоль, рентген, эндоскопия, УЗИ и иммунодиагностика. Все это должно было занять, как ему объяснили, некоторое время. Он понимал, что «некоторое» — это понятие растяжимое и, зная, что не все сразу делается, везде и как мог применял известный «ускоритель», и принялся ждать, терпеливо сдавая анализы, перезваниваясь с Валентиной и Оксаной, сообщая им — жене подробно, любовнице кратко — обо всех этапах своего «скорбного пути», будучи готовым на все…
И вот настал день «икс», когда Иван Иванович, собравшись с духом, пришел узнать результат. У кабинета, как водится, была очередь— живая или нет, он не знал— не стал интересоваться, ибо не привык сидеть в очередях. И, несмотря на сильную слабость, не изменяя своей привычке, не сел рядом с другими, а встал в коридоре вдали от двери, но так, чтобы видеть ее. И когда дверь в очередной раз недовольно скрипнула и медсестра вышла из кабинета, он кивком головы подозвал ее, уже достаточно знавшую его щедрость, к себе, улыбаясь, встав вплотную к ней, положил кое-что в нагрудный кармашек ее халата и прошептал: «Проведите меня».Через некоторое время, когда врач освободился, его вызвали, и он на глазах у покорно и понуро опустивших головы людей из очереди решительно вошел в кабинет.
Врач, медленно перебирая бумажки, время от времени коротко взглядывая на Степанова из-под кустистых бровей и что-то бормоча себе под нос, долго и внимательно изучал результаты обследования. Но вердикт его был краток — опухоль желудка, и динамично растущая… Нужно ложиться в стационар и проходить химио- и лучевую терапию. Первая, как ему объяснили, заключалась в лечении с помощью специальных сильных лекарств, направленных на уничтожение зловредных, избравших себе иную жизнь, клеток. Вторая — в лечении с помощью радиационного излучения, убивающего переродившиеся клетки.Ну, а если не поможет, то либо удаление всего желудка, близлежащих лимфоузлов и прочих органов, которые поражены болезнью, либо паллиативное лечение — то есть терапия, поддерживающая жизнь, устраняющая сложные проявления раковой болезни и обеспечивающая подходящее питание, одним словом, все, что нужно,— до благополучного ухода в мир иной… Конечно, врач так не сказал, но Иван Иванович понял.
— Вы сказали, что возможно удаление всего желудка. А разве человек может жить без него?— спросил он.
— В этом случае функцию желудка берет на себя кишечник. Правда, качество вашей жизни после резекции желудка станет намного хуже: придется соблюдать строжайшую диету, есть часто и небольшими порциями. Но жить можно,—ответил врач.
Степанов хорошего результата от обследования и не ожидал,— факты говорили не в его пользу,— поэтому отнесся к приговору не сказать спокойно — все опустилось у него внутри,—но молча, мысленно начиная готовиться к этапу, какой по длительности Бог даст, борьбы за продление какой-никакой жизни. Он во всех смыслах от души поблагодарил врача, договорился о стационаре и, испросив непродолжительный отпуск — передать дела, проститься на всякий случай с близкими и друзьями, а также собраться,— закупил ампулы с обезболивающим «по средствам» и вызвал машину.
На пути в свой городок Иван Иванович увидел церковь, стоявшую на берегу речки, рядом с постаревшим и вконец обнищавшим селом. В этой церкви он когда-то, лет десять тому назад был на отпевании матери своего ближайшего сотрудника, проживавшей в своем стареньком домике в этом селе. Как сейчас перед глазами возникла панихида, гроб, скорбные лица, запоздалые слезы на лице сына… У него возникло желание зайти, и он попросил водителя остановиться.
Служба, видимо, недавно закончилась, ибо то тут, то там у икон стояли люди, и сильно пахло ладаном. Священник у аналоя, разговаривал с прихожанкой. Степанов встал в стороне, делая вид, что тоже хочет поговорить. Он не был верующим в общепринятом смысле этого слова, в храм не ходил, не постился и не молился, но в жизни было несколько случаев, когда он мог убедиться, что Бог есть. И Иван Иванович, понимая, что Богу все подвластно, но будучи неуверенным, что лично ему, недостойному, Он захочет помочь, все же испытывал слабую надежду на такую помощь. Когда женщина отошла, он неуверенной походкой подошел к священнику.
— Что вы хотели, сын мой? — спросил тот.
— Я очень болен, батюшка, но верю, что все во власти Божьей. Что вы посоветуете, чтобы исцелиться?
— Это хорошо, что верите. А совет прост: молитесь, любите людей и делайте добро, не думая о результате.
—И все?
—А что, разве этого мало?
—Благодарю вас, отец,— сказал Иван Иванович и, поклонившись, пошел к выходу. «Неужели все так просто, или священник просто отговорился, чтобы не терять время и силы на такого безнадежного, как я»,—думал он, вытаскивая из бумажника крупную купюру денег и опуская ее в емкость для жертвоприношений у двери.
Священник улыбнулся на его поспешный выход из храма и перекрестил вослед широким крестом.
Дома Степанов, завершив все запланированные дела, после укола, сделанного медсестрой, и после легкой еды под давлением жены, лежал и мысленно готовился к грядущему лечению. «Господи, помоги мне исцелиться!» — вдруг взмолился он, чего раньше никогда ничего подобного не делал. Может быть, посещение церкви и разговор со священником так повлиял на него? Однако тяжелые мысли вновь вязко закрутились вокруг одного и того же, затягивая как в омут его сознание, и быстро утомляли его. Чтобы отвлечься, он взял смартфон и вошел в Интернет. А там, в ленте новостей, чего только нет: и политические сплетни, и экономические слухи, и аномальной погодой пугают, и «светские» события, и убийства с самоубийствами, и наркотики с порнографией… и все это оголтелой толпой накинулось на его и без того нездоровое сознание. Голова буквально раскалывалась, и он уже хотел выключить гаджет, но внимание привлекла фотография маленького мальчика — что-то было необычное в выражении его лица: какая-то неизбывная тоска в глазах и старческая улыбка, будто он что-то важное потерял в жизни, еще и не начав жить. Иван Иванович, сам теряющий жизнь, нажал курсором на фото и начал читать открывшийся текст. Оказалось, что Никита, которому всего чуть больше года, очень болен. У него редкое и сложное генетическое заболевание… «Так, все понятно!»—возмущенно подумал Степанов. Он вспомнил, как копил копейки в своем детстве и потом, на собранные деньги, покупал себе простенькую игрушку, которую родители не в силах были купить, так как они в семье с четырьмя детьми и престарелыми бабушкой и дедушкой жили очень бедно. И эта игрушка становилась его другом на долгое время. А тут… Попрошайничество! И еще неизвестно: мальчик ли там больной, или замаскировавшиеся мошенники!
Иван Иванович делает движение, чтобы выключить смартфон. Но обращает внимание на то, что новость о больном мальчике поместил православный сайт «Азбука веры». Он нажал на ссылку, и ему открылся материал: «Образование —это раскрытие в человеке черт образа Божьего». Степанов стал вчитываться в материал, но читать не мог, так как ему необоримо хотелось спать. Он начал бороться со сном, буквы сделались расплывчатыми, превратились в туманные образы, и он, вглядевшись, уже различает отца и мать, дедушку с бабушкой, брата и сестер. Они все сгрудились у его постели. Он давно и очень болен, но, слава Богу, удалось по программе помощи малоимущим семьям положить его в Детский онкоцентр. Однако недавно все врачи и медсестры уволились оттуда из-за низких зарплат, и его снова привезли домой. И вот родные в горе, они не знают, что делать. Остается только лечение за границей — другого выхода нет, но это очень дорого, для семьи непосильно. Что делать?!..
Степанов проснулся от стука в дверь. Стук не повторился. Он понимает, что никто стучать в дверь не мог, так как, во-первых, она не могла быть заперта — не было замка,— и во-вторых, жена или медсестра могли просто войти к нему, спящему, без стука. Иван Иванович снова впадает в дремоту и видит: бесшумно открылась дверь, и в комнату вошел священник, подошел к его постели, и лицо его откуда-то до боли было знакомо ему.Священник протягивает руку, чтобы взять лежащий на постели смартфон… Но все расплывается перед глазами Степанова…
Будучи еще во власти сна, с трудом входя в реальность, Иван Иванович, наконец, вспоминает все: и себя, и новость о больном мальчике Никите с таким странным лицом.
«Однако всякое бывает… Может, я и ошибаюсь…— думает Иван Иванович. Ведь когда студентом он разбил дорогой микроскоп в лаборатории, сейчас уже не упомнит какой, хотя память до сих пор была отменная, и обратился ко всем, к кому мог, за помощью, то вся группа, родители, родственники и друзья собирали деньги…
Он включает смартфон, находит информацию о мальчике и читает: «Спинальная мышечная атрофия, при которой сначала отказывают ноги, потом спина, шея и внутренние органы. И уже совсем скоро он может потерять возможность управлять собственным телом. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться. А в ближайшем будущем возникнут еще и проблемы с глотанием и дыханием. С подобным недугом дети обычно не доживают до школьного возраста. Помочь ему могут только за границей, в Германии, в частной клинике… (следует название клиники). Сумма для лечения баснословна — сорок пять миллионов рублей.Такие деньги родители мальчика собрать не могут, она для них просто неподъемная, даже если продадут все имущество…» Иван Иванович просмотрел видеообращение матери мальчика, в котором она сквозь душевную боль, плача, говорит: «Мы очень просим всех неравнодушных, милосердных людей помочь нам! Мы уже смогли, благодаря вам, собрать десять процентов от общей суммы. Помогите!» И далее, как обычно, следовали реквизиты…
После некоторого колебания Степанов — «А… все равно с собой не заберешь!»,—заполнив в своем мобильном банке перевод со своего счета, нажав на «Ок», отправляет всю требуемую сумму на лечение мальчика… и снова засыпает.
Спал Иван Иванович на этот раз без сновидений — как провалился в сладкую пучину безвременья. Разбудила его мысль, что пора делать укол. Посмотрел на часы на стене, где секундная стрелка, как всегда, бездумно и бесчувственно бежала по кругу,— и понял, что проснулся на два часа позже назначенного времени. Сел на постели, и уже после этого поразился тому, с какой легкостью он это сделал — боли не было! Лег — сел, и так несколько раз, но все было в норме. Зверь, цепко державший его плоть в своих когтях, куда-то исчез. «Может, мне сделали укол во сне? — подумал.— Однако я бы почувствовал…»
Открылась дверь, и в комнату робко, видимо, боясь разбудить, вошли жена и медсестра. Увидев Степанова сидящим, они переглянулись, а Валентина, показав кивком головы на часы, сказала:
— Ваня, уже давно пора делать укол, но ты так сладко спал, что мы не решились тебя будить.
— Валя, но у меня ничего не болит!
— Как не болит?! — одновременно удивленно, радостно и с сомнением воскликнула жена.
— Вот так, не болит и все! И укол делать не нужно, сестра.
Валентина раздвинула шторы на окне, и в комнату яркими лучами заглянуло июньское солнце.
Медсестра, явно не веря услышанному и увиденному, пожала плечами и вышла. Жена села на край постели и взяла его руку в свою. В глазах ее стояли слезы, но внутренне она не знала плакать ей или улыбаться, ибо по рассказам знакомых знала, что перед самым концом больной может на некоторое время как бы выздороветь…
Степанов и сам не верил, что боль не вернется. Но ни вечером, ни ночью, ни утром — не было боли!Он решился, надел спортивную форму— почувствовал, как она стала свободно сидеть на нем,—и вышел на пробежку. Труси́т, «нарисовал» привычную «восьмерку» вокруг усадьбы,— правда, один раз, на большее сил не хватило,—вернулся— боли нет.
Когда Иван Иванович зашел в комнату Валентины, та стояла перед иконой. Зная, что жена не любит, когда ей мешают, он, было, вышел. Однако звук открываемой двери все же отвлек ее и она, думавшая о нем и ожидавшая его возвращения, обернулась.
— Как ты, Иван?
— Вообще не болит! Даже не знаю, что и думать…
— Поезжай к лечащему врачу, покажись, пусть назначит всестороннее обследование — с этим шутить нельзя!
И вот Степанов, приехавший в родной город проститься с родными, друзьями и сотрудниками, снова едет в Москву. И если путь домой показался ему нескончаемо длинным, то сейчас он, мысленно подгоняя мелькавшие за окошком автомобиля виды, с замиранием сердца, как на крыльях летел до Каширского шоссе и до самого Центра.
Боли нет. Врач потрясен и направляет его на полное обследование. И снова Иван Иванович получает на руки кипу направлений, снимает квартиру и, всякий раз замирая душой перед сдачей анализа или процедурой, окунается в тот же процесс, который он проходил недавно. Только тогда над ним довлело чувство обреченности, а сейчас им двигала с каждым днем, с каждым часом, словно чайка, витая над голубой речкой, как в далеком детстве, все возрастающая надежда.
И вот, наконец, Степанов идет к врачу за результатом. Он неотрывно глядит в его глаза, пока тот внимательно читает бумажку за бумажкой. Вот прочитано все, врач берет ручку. Иван Иванович напряженно ждет вердикт. В этот момент в окно кабинета заглядывает солнечный луч, врач жмурится, поворачивается влево навстречу солнцу и, улыбаясь, снимает очки, одновременно двумя пальцами свободной руки массируя виски.
— Ну что, Иван Иванович— только зарубцевавшаяся язва. Химиотерапия, лучевая терапия и удаление не требуются. Необходимо только домашнее восстановительное лечение. Не верится…— Он показал на бумаги с результатами. — Но факты говорят сами за себя. Удачи вам!
Однако для верности, не уезжая из Москвы, Степанов решил провериться еще в другом медицинском центре. Он снова, как и ранее, прошел полное обследование по всем направлениям. Результат был тот же — все в норме.
Иван Иванович входит в Интернет, на тот сайт, где читал объявление о Никите, находит информацию о нем. Мальчик уже в Германии, идет лечение, прогноз хороший. Мельком просматривает комментарии, они из всех городов и весей страны и полны изумления и восхищения. Он не зацикливается на них, а обращает внимание на новое объявление, набранное крупным шрифтом, что мать Никиты разместила на сайте, в котором просит назваться того человека, кто перечислил такую огромную сумму, просит сообщить свои координаты, чтобы выразить благодарность и сообщить о нем людям. Степанов улыбнулся, почувствовал теплоту в сердце, но решил ничего о себе не сообщать…
Закончив все дела в Москве, Иван Иванович едет домой. Погода стоит скверная, природа буквально плачет, что, в общем-то, не свойственно июню месяцу, хоть и в конце его. Серое небо тяжело повисло над грустной землей. Не видно уж былой синевы, не чувствуется былой юной свежестии прежних вибраций юной энергии. Пруд за поворотом своей зеркальной гладью отражает ту же небесную серость и словно с укором глядит ввысь. Поскучнели и поникли яблоневые ветви и кисти сирени за оградами дач. Смотрит Степанов на этот нежданно возникший летом осенний пейзаж, а на душе, несмотря на непогоду,— радость. Это была, конечно, радость здоровья, радость исцеления, божественного исцеления, исцеления Свыше — он это понимал, хотя полуатеистическое сознание еще не вполне воспринимало это,— но была и большая радость от содеянного добра, бескорыстного доброго поступка, бескорыстного еще и потому, что ни на мгновение в его душе не возникло сожаления о потраченных им для больного ребенка деньгах.
Все друзья и сотрудники, женаи дети, когда Степанов вернулся домой из Москвы, в один голос, говорили— это чудо! Он же отвечал всем: «Нет, никакого чуда здесь нет, просто я дороже всех заплатил за лечение!»
г. Тула
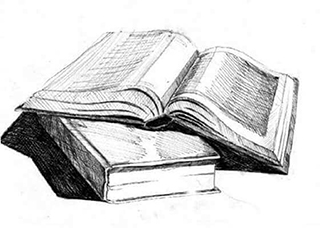
ОЛЬГА ШЕВЧУК
ГАЛИНКА
ГАЛИНКА
– Так на чём я остановился? А, Витёк? – поднял на товарища вопросительные глаза сержант Брынин. А были они серые, с блеском, как штык на автомате или походная алюминиевая миска.
– Про Галинкину мать начал рассказывать, – напомнил ему старшина Колобков. – Что нашёл, наконец, её в больнице.
Оба друга встретились час назад на железнодорожной станции и теперь шли пешочком, в длинных шинелях и вещмешками на плечах, в расположение своей воинской части. Им было по двадцать с малым, но воевали они бок о бок уже второй год. У Брынина справа на груди выделялась красным цветом нашивка о ранении, слева блестела медаль «За отвагу». Правда, под шинелью их было не видно. У Колобкова нашивок не имелось, но у него была контузия и медаль «За боевые заслуги». И оба они возвращались в строй после коротких отпусков, данных для поправки здоровья и как поощрение от начальства.
– Ну да, ну да, – оживился Брынин. – Я и говорю: впилась она в меня долгим взглядом, будто и не узнаёт вовсе. Потом, опираясь локтями на кровать и чуть приподнявшись, прошептала: «Никак, Аркаша? Господи, не сон ли это?» – и вновь откинулась на подушку. Тут медсестра подбежала. «Не тревожьте больную, – верещит. – Ей и так тяжко». Я и сам вижу, что не до меня тётке Анне, да уйти не могу, не прознав про Галинку. Спросил всё же… Пошевелила тётка губами, будто заклинания какие пробормотала. «В деревне она, в Долинке», – едва расслышал. «У бабки Глафиры?» – уточняю. «У неё, где же ещё». Долинка километров в сорока будет, да ты и без меня знаешь…
Старшина согласно кивнул. Конечно, знает. Как-никак земляки! И это обстоятельство было выражено во внешности: у уроженцев тех мест волосы русые, а глаза как небо – серое, в тучах, словно озабоченное, или ярко-голубое, праздничное.
– А у меня, Витёк, сутки всего-то и остались на встречу с любимой. Попрощался я с тёткой Анной, пожелал выздоравливать, а сам только и думаю, что о Галинке. Всё ж таки спросил у врача, есть ли надежда, что тётка Анна выкарабкается. «Есть, – отвечает решительно, без всяких заминок. – Отчего же нет? Уже и рана затягиваться стала. Выживет мать, сынок! Воюй спокойно!» Он, значит, за сына её меня принял. А чем я не сын тётке Анне? Приехал с одной лишь мыслью: жениться на её дочери. Весь город перевернул, пока тётку Анну искал. Дом-то их разбомбили!
– Так она что, под бомбёжку попала? – спросил Виктор, доставая кисет с махоркой и полоски от старой газеты.
Остановились, любовно скрутили по «козьей ножке», послюнявили, чтобы приклеить свободный край. У Аркадия оказалась трофейная зажигалка. Закурили, пряча огонёк от ветра.
А ветер был злющий, и уже с примесью капель дождя.
– Да нет, – продолжил рассказ сержант. – У станка стояла. На военном заводе. Пока сознание не потеряла. Думали, голодный обморок, а оказалось – аппендицит. Никто уже и не помнил, что бывают другие болячки, кроме ранений да истощения… У неё, как врач пояснил, перитонит начался, поскольку этот хрен, ну отросток кишки, успел лопнуть. Хорошо, хоть в больницу догадались отвезти… Ну да ладно, обещают выходить… И подался я, значит, в Долинку. Добирался эти злосчастные сорок километров, как придётся: где на попутке, где на подводе, а где и пешком. Ничего вокруг не видел, не слышал – как шальной, к ней спешил. Всю дорогу представлял, как скажу ей: «Галинка моя ненаглядная! Выходи за меня! Я и ласковый, и рукастый! Всё, что хошь, для тебя сделаю…» Думал, из объятий не выпущу. А вернусь с фронта – сынок уже малость наш подрастёт, ей да мне на великую радость. Чуешь, Витюха?
Виктор молча кивнул и похлопал друга по плечу.
– Вижу, что чуешь, – ощерился Аркаша, довольный участием друга. – Не подумай, что к Галинке меня тянуло просто как к обычной бабе. Нет! Тянуло как к самой родной, самой желанной, одной-единственной, небесами данной. Она для меня, как собственное сердце, стала. Всех, кроме неё, война отняла. Здесь – Аркадий хлопнул себя по груди ладонью – теперь она лишь да ты, друг ты мой закадычный, с кем по-братски всё на двоих делим, из котелка одного едим… Эх, Витька, родной ты мой… – Брынин сжал пальцами твёрдое плечо старшины. – Что ни говори, а земляки – это, считай, одна кровь…
Как ни скуп был на проявление чувств Колобков, Брынина он любил. За весёлый нрав, за покладистость, спокойную уверенность и рассудительность. Знал: Аркадий не подведёт ни в чём. А сдружила их фронтовая песня. Взял старшина как-то гармонь, растянул меха, запел «Землянку». Слышит, подпевает кто-то из новеньких, только что прибывших в полк, под его тенорок подстраиваясь… Потом выяснилось, что они с одних краёв, земляки, выходит.
Помолчали, посвечивая самокрутками в сумерках: второй день, как передышка на передовой, тихо, будто на учения выехали. Только вот свежие холмики да алчные воронки бередят душу, и не вычеркнет уже никогда память то, что пережито за долгие месяцы войны… Знал Колобков по себе, как тянет порой выложить другу сокровенное, выпестованное в сердце, выложить как на духу, пока есть возможность, поскольку никому не ведомо, чем обернётся завтрашний день. «Козьи ножки» уже догорели, бросили их на землю, втоптали сапогами в грязь. Глянули оценивающе на тучи – авось, пронесёт, успеют до ливня! Пошли по обочине дороги, выбирая места посуше.
– Дальше-то что, Аркадий?
– Дальше? – Брынин приосанился, лицо его засияло по-детски, как сияет лицо ребёнка, когда он бежит навстречу матери. – Пришёл я к избе Галинкиной бабушки вечером. Темнеть уже начало. Стукнул осторожно в окошко, а самого аж трясёт от волнения. Увидел личико её за тёмной занавеской – дыхание перехватило. Открыла дверь – чуть ли не в ноги ей бухнулся… Никогда не думал, что так известись можно… Обнял её, ненаглядную, волосы трогаю, плечи сжимаю, сердце унять не могу, словно и не моё оно вовсе… Целую Галинку в раскрытые губы, ласкаю, и она рук моих не отталкивает, как бывало прежде, когда встречались с ней до войны. «Галинка, – шепчу, – будь моей, будь… Я так долго искал тебя, так долго ждал этой минуты…» Вижу, она заколебалась, не против, вроде, хоть и побаивается. Я и не заметил, как сапоги да гимнастёрку скинул, с ней на печку забрался…
Видал бы ты, Витя, красоту её нетронутую… Не скажу, что Галинка картинная красавица. Но чем дольше глядишь на её округлое личико, задумчивые васильковые глаза, ровный носик, ласковый рот, тем больше в них влюбляешься, тем милее и дороже тебе всё это становится, и красивее, кажется, никого на свете нет…
– Бабки, что ли, в избе не было? – потревожил Виктор мечтательно умолкшего Брынина.
– Что бабка… Да хоть бы вся Галинкина родня собралась бы там, я и не заметил бы никого… Только бабка Глафира в эту ночь у кого-то роды принимала, она в деревне вроде знахарки-повитухи была: врачей да фельдшеров на фронт отправили… Одна со всем справлялась. Галинка испугалась, не пошла с ней. И хорошо, что не пошла: не то и не увиделись бы так…
Брынин споткнулся о выступающий из земли осколок снаряда, ругнулся, посмотрел на каблук сапога, прожжённый у солдатского костра: «Заменить бы надобно», – промелькнуло в голове, и продолжил повествование.
– Очутился я, значит, на широкой печной лежанке, ласкаю любимую свою, задыхаясь от радости, и уж совсем она было стала мне женою любезною, но вдруг глянул я на её полузакрытые веки, стыдливо замершие в ожидании неизвестного, и… остановил себя, не совершил недозволенного. Не смог! Будто чары какие с меня спали, как с откоса вниз слетел… «Да как же тебе не совестно, искуситель ты мерзкий, посягнуть на доверчивость её беззащитную? – упрекнул сам себя. – Как можешь ты осквернить чистоту её родниковую? Любит она тебя, отдать всю себя готова, и не задумывается под горячую руку, что с нею дальше будет! Не вернёшься, неровен час, с фронта, жалким калекой постыдишься явиться к ней – и что тогда? Как жить девчонка будет? Чтобы её всю жизнь другой мужик сегодняшней ночью попрекал?» Расписаться с ней не успеваю: мне к утру уезжать надо, чтобы под трибунал не попасть. А и того хуже: сынок желанный от меня родится… Счастья ей на полночи сегодня, а горя сколько? Представил я сына своего без отца или с отчимом нелюбимым, слеза прошибла… Нет, дорогая Галинка, слишком люблю я тебя, чтобы не подумать в такую минуту о твоём будущем… Мужское дело – что с гуся вода, а ей, доверчивой, всю жизнь расхлёбывать да оскорбления выслушивать, докажешь разве, что не потаскуха какая-то, а жена верная, если документа нужного на руках нет… И подумав обо всём этом, Витёк, почувствовал я себя – веришь ли – мужчиной, человеком в лучшем смысле слова.
Галинка моя и не чаяла, что я добровольно от такого счастья откажусь. Решила поначалу, что не поверю по возвращении в верность её, коли бояться ей не за что станет. А как растолковал я всё ей, разложил по полочкам, заплакала, жить без меня, говорит, не захочет…
Брынин снял пилотку, провёл данью по коротким жёстким волосам. Старшина шёл рядом, опустив голову и глядя себе под ноги, будто высматривая что-то. Откровения Аркадия растревожили ему душу. «А как бы я поступил на его месте?» – думал он и не находил ответа. Хрустнуло раздавленное стекло. Сержант решительно надвинул пилотку на лоб.
– Так и лежал я возле неё, Витёк, любуясь ею и не трогая её, стараясь запомнить каждый изгиб её нежного тела. Заметил, что груди её пополнели, а ладони погрубели от нелёгкой работы; что косу отрезала – хлопот, видно, с ней много…
– О матери-то сказал? – очнулся от своих раздумий Колобков.
– Не хотел радость её омрачать. Решил сказать, когда уходить буду… Ох, Витя, о чём мы только с ней не говорили в ту ночь! Я хоть и уставшим был, но какой тут, к чёрту, сон!.. Наговориться с нею, налюбоваться ею не мог… И всё ж таки одолел лукавый: не заметил, как на полуслове, обняв её сладко, задремал ненароком… И только задремал, как скрипнула дверь, керосинка затлела, и – слышу – крик ошалелый: «Ты что ж это, ирод проклятый? Девку позорить вздумал?!» Я и глазом моргнуть не успел, как бабка Глафира – а это была она – огрела меня кочергой по лопаткам голым. «Убью, – кричит, – паршивца, зараз убью!» Ошалел я от боли и крика, чуть в драку не полез, да осенило потом: как, в самом деле, возле Галинки раздетым выгляжу? Отвечаю бабке укоризненно: «Неужто вы, пожилая женщина, доброго человека от дерьма отличить не можете? Не тронул я Галинку…Да хоть проверьте сами, сразу же убедитесь». «Знаю я вашего брата, – скрежещет старуха. – Всю жизнь девкам помогала – одним родить, другим – от греха избавиться… Так уж и не трогал её?» «Что ты, бабушка, он не такой, он правду говорит», – это Галинка за меня вступилась с печки. «Смотри у меня, – бабка Глафира погрозила ей пальцем. – Тебе дальше жить… В глаза людям смотреть»
Тут я и рассказал обеим про больницу и тётку Анну. Галинка встрепенулась, забегала по избе, схватившись за голову. Бабка Глафира припечалилась. А мне собираться надо. Утро вот-вот высветится. Галинка со мной было собралась идти – мать навестить, да бабка ей не позволила. Сказала, подводу выхлопочет, привезёт больную Анну в деревню. Успокоил я Галинку кое-как, стал прощаться. «Кого нынче приняли?» – спросил, чтобы бабку Глафиру от тяжёлых мыслей отвлечь. А сам загадал: мальчик – значит, у нас с Галинкой всё хорошо будет. Девочка – знать, не судьба нам быть вместе. Повитуха говорит: «Мальчик». Ох, и обрадовался я, Витёк! Расцеловал обеих.
Галинка провожать меня вышла. «Не жалеешь?» – спрашивает. Понял я, о чём это она. Обнял её, прижал к себе и так крепко поцеловал, что, кажется, всю свою невыплеснутую любовь в поцелуй вложил. И признаюсь – повлажнело у меня сильно там, где чувства наружу просились. «Не жалей меня, мужика, – говорю. – Себя береги. А голод свой мужчина всегда утолить сумеет…»
Так и запомнил её, одиноко стоящую в предутренней дымке у плетня. И пошёл себе по дороге дальше, думая о том, что…
Слух резанул неожиданный свист. Они инстинктивно пригнулись. Но поздно, поздно!.. Брынин упал ничком, без стона и крика, как срезанные серпом колосья пшеницы… так и не успев довершить начатую фразу.
– Аркаша! – взвизгнул Колобков, бросаясь к нему.
И в ужасе отпрянул: там, где должна была покоиться голова сержанта, на земле расползалось кроваво-белое месиво…
Оказывается, со стороны станции им в спину, словно вдогонку, летела чугунная болванка. И в доли секунды сделала своё страшное дело…
– Аркадий… – закричал безголосо старшина. – Друг закадычный… Земеля! Как же это? Говорил ведь, что мальчик, а?
Он раскачивался на коленях, уткнув своё юное, почти мальчишеское лицо в пилотку, с болью осознавая, как порой был не щедр на ласковое слово для друга, и как теперь все слова безнадёжно пусты и нелепы, потому что уже не для кого их произносить.
г. Москва
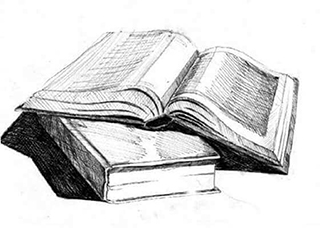
ВЛАДИМИР ДЕЛБА
ИГРОК
(Фрагмент повести)
Наша школа, сухумская средняя школа № 3, находилась рядом с городским стадионом. Мы, мальчишки, часто ходили туда после занятий, или срываясь иногда с уроков.
Стадион в те годы, в конце пятидесятых, выглядел достаточно удручающе: обшарпанные стены, ржавые ворота без замков, искривленные доски трибун с облезлой краской.
На территории стоял маленький домик, в котором жила семья тренера детской футбольной секции, грека по имени Тула. Он еще присматривал по возможности за полем, ибо, помимо тренировок спортсменов, здесь проходили и матчи профессиональных команд.
Для нас, школяров, стадион был символом свободы, абсолютной вольницы. Можно было вволю погонять мяч, громко обсуждать любые темы, курить, ни от кого не таясь.
А ещё на стадионе довольно часто собирались любители поиграть в карты, как говорится, «на интерес». Не профессиональные игроки – «каталы» – а состоявшиеся, независимые в финансовом плане, взрослые азартные мужчины, получавшие от игры дополнительный адреналин.
Играли в «Буру», «Очко», «Терц». Но наиболее популярной была «Сека». По-разному называли её на просторах огромной страны: «Три карты», «Трилистник», даже экзотически – «Лябляби», но чаще всё же – «Сека».
Нехитрая, казалось бы, игра, немного напоминающая «Покер», зависящая от случайного, механического набора, комбинаций всего трёх карт, тем не менее требовавшая от игроков умения, опыта, самообладания, знания психологии. Ведь помимо везения важнейшими факторами, сопутствующими победе, являлись именно поведение игрока, умение сохранять внешнее спокойствие, способность блефовать, то есть уверенно играть при высоких ставках со слабой картой, вызывая у противника сомнение или страх, вынуждая того проявлять слабость, уступать напору и сдаваться, пасовать.
«Стадионные картёжники», как мы, мальчишки, между собой называли игроков, являлись на свой турнир два-три раза в неделю, около часа дня, и, как правило, в одном и том же составе, хотя, конечно, бывало, что кто-то не приходил, или появлялись новые, незнакомые нам персонажи.
Конечно, они представляли для нас интерес, эти самые – интернациональная команда людей, разных по возрасту и профессиям, по мировосприятию и эмоциям. Во время игры эта разница ощущалась особенно ярко. И было очень увлекательно отслеживать поведение каждого игрока, его реакцию, самообладание или, наоборот, повышенную эмоциональность, пытаться анализировать и предугадывать ход событий.
Нам, школьникам, позволялось наблюдать за происходящим вблизи, правда с тремя жёсткими условиями: в карты не заглядывать, вопросов не задавать, и вообще сидеть тихо, будто нас здесь и нет вовсе. Что мы и делали: сидели тихо и наблюдали за поведением игроков и за ходом самой игры.
Поскольку, как уже говорилось, картёжники собирались на стадионе не столько ради денег, сколько в поисках острых ощущений, то особо высоких ставок, как правило, не наблюдалось. Возможность их повышения ограничивалась, по специальной договоренности, перед каждой игрой. Это позволяло избегать ситуаций, когда один из игроков мог задавить других непомерно высокой ставкой, которая оказывалась неподъемной для партнеров, и вынуждала их сдаваться, сбрасывая сильные карты.
Итак, игроки сражались, мы наблюдали, в общем, ситуация становилась привычной, даже рутинной, во всяком случае, какой-то необычный всплеск эмоций не предвиделся.
Однажды на стадионе появился человек, которого раньше здесь никто не видел. В нашем небольшом городе многие знали друг друга, хотя бы в лицо. Но новичок никому не был знаком. Относительно молодой, но с седыми висками, щуплого телосложения, хорошо воспитанный и доброжелательный. Приятные черты лица, застенчивая улыбка, очки в круглой металлической оправе делали его похожим на школьного учителя.
Единственное, что могло вызвать вопросы, так это следы татуировок на руках, на фалангах тонких, аристократических пальцев незнакомца. В те годы никто не увлекался татуировками просто так, баловства ради либо из неких эстетических соображений, как сейчас. Изредка наносили себе специфические рисунки, в виде морских символов, якорей, как правило, бывшие моряки, в память о службе на флоте.
Сомнительной же привилегией наносить наколки на тела пользовалась «зона». Тюрьма или лагерь – вот откуда возвращались бывшие заключенные с рисунками или надписями на коже, выполненными с помощью иголки и туши. Причем, сами изображения, их символика, несли конкретный смысл и могли подробно рассказать о человеке языком, понятным каждому прошедшему через места не столь отдалённые.
Качество рисунков, как правило, было низким, но иногда на телах зэков наблюдались, можно сказать, шедевры графического искусства.
Думаю, никто на стадионе не знал, что могли означать татуировки на пальцах «школьного учителя», которые к тому же хозяин практически свёл. А то, что осталось, не давало даже представления об изначальном изображении.
Приходил он почти во все игровые дни, садился рядом с картежниками, и с интересом следил за игрой, иногда после её окончания расспрашивая о правилах и нюансах. У меня же возникало смутное чувство, что я уже видел этого человека раньше, но никак не мог вспомнить, где и когда.
Спустя какое-то время новичок, немного смущаясь, попросил принять его в игру. Получил согласие, обрадовался и сел в круг. С тех пор периодически играл, скоро освоился, стал своим в небольшом коллективе «стадионных картежников». Был нерешительным, чаще проигрывал, чем выигрывал, но всегда небольшие суммы.
Я хорошо помню день, когда Эдуард, подойдя на переменке, произнес вполголоса мне на ухо:
– Старичок, завтра, после четвёртого урока валим на стадион. Лады? Ованеса и остальных я уже предупредил.
– Валим, так валим. Лады! – В тон собеседнику бодро отрапортовал я, отметив для себя, что, вообще-то мы редко планировали что-либо заранее, даже на день вперёд, чаще программа определялась спонтанно. Но предложение друга проигнорировать было нельзя.
Мы ещё играли в футбол одолженным у Тулы мячом, когда стали собираться любители карточного адреналина. Игроки устроились в тени, под импровизированным навесом, мы, как обычно – рядом. Игра текла в несколько вялом темпе, лишь изредка возникали ситуации, провоцировавшие игроков на всплески эмоций. Наиболее шумно проявлял их, как всегда, таксист по прозвищу Джага.
В те годы в народе были очень популярны индийские фильмы, с участием культового актёра Раджа Капура, в особенности фильм «Бродяга». Эта сентиментальная мелодрама прекрасно встраивалась в южный менталитет местного населения, её многократно пересматривали, растаскивали на цитаты. Так вот, этот самый Джага, имя которого приклеили местному таксисту, был в фильме отрицательным героем, бандитом, главой местных уголовников. Наш земляк, таксист, немного напоминал его внешне, но, главной причиной, так сказать обоснованием выбора прозвища, думаю, являлись черты характера: грубость, порой граничащая с хамством, невоспитанность, жадность. Да и внешние его данные не вызывали симпатии: огромная непропорциональная голова, сплошь покрытая иссиня-черными кудряшками, не знавшими расчески, волосатые руки и грудь. Полный рот золотых коронок. Плюс сиплый, низкий, но мощный голос
Итак, игра продолжалась. Теперь необходимо вернуться к ее правилам, смыслу. Комбинацией наивысшего уровня являлся набор из трёх тузов. Ниже шли, в соответствии с общепринятым каноном, наборы из трёх «картинок»: короли, дамы, валеты. Ну а дальше – остальные карты по ранжиру, в соответствии с их достоинством. Некоторые комбинации, к примеру, две или три карты одного достоинства и одной масти, то есть одинакового значения, могли оказаться одновременно у нескольких игроков. Тогда возникала ситуация, называемая секой. В этом случае деньги на кону оставались в игре, карты раздавались заново, остальные игроки, пожелавшие продолжать игру, обязаны были поставить на кон заново. Причём сека могла возникать подряд, что увеличивало сумму на кону и, конечно, разогревала эмоции игроков.
Вот и сейчас сека выпадала пятый раз подряд. На кону скопилась непривычно большая для «стадионных картёжников» сумма денег. Один из игроков неожиданно предложил:
– Такого ещё не было, в смысле бабок на кону, и в смысле секи, прёт и прёт. А давайте для фарта поменяем колоду карт на новую. А то эти уже скользкими стали от наших потных рук. Вот попросим пацанву сбегать в магазин «Канцтовары» да и сами чуток передохнём.
Не успел он закончить фразу, как вскочил Эдуард:
– Дядя, я сбегаю, не вопрос.
Получив деньги, исчез со скоростью, не давшей возможности нам, его друзьям, даже предложить сбегать за компанию.
Вернулся запыхавшийся гонец минут через десять, прижимая к груди новую, запечатанную колоду игральных карт в нарядной, блестящей красно-белой упаковке.
Очередь сдавать карты пришлась на «школьного учителя». Он долго перемешивал, неумело тасовал карты, дал «срезать» рядом сидящему игроку, а им оказался Джага, глубоко вдохнул воздух, и приступил к обязанности метчика. На лбу выступил пот, пока он, по кругу, медленно и аккуратно раскладывал карты перед игроками.
Наконец все получили свои заветные три листа. Некоторое время ушло на ознакомление с ними. Игроки, пряча, кто как мог, свою нервозность и волнение, долго-долго раздвигали одну за одной игральные карты, эти своеобразные символы Судьбы в бело-красных, элегантных «рубашках».
Теперь все взгляды были устремлены на Джагу, первое слово было за ним. Насупившись и пыхтя, таксист всё ещё не решался посмотреть третью карту. Пот стекал по его потемневшему лицу, на рубашке расплывались пятна влаги. Наконец, он открыл все три карты, долго смотрел на них, не мигая на них, затем, сдвинув, аккуратно положил перед собой, прижав для гарантии камнем. Запустил руку в карман брюк, выудив полную пригоршню мятых купюр. В основном, дензнаки были фиолетового цвета. Двадцатипятирублёвки, или, как их называли с уважением, четвертаки. Очень даже большая по тем временам сумма, если не забывать и о немалых деньгах, уже лежащих на кону.
Кто-то попробовал робко возразить, что мол давить ставками нельзя… В ответ раздалось рычание Джаги:
– Сегодня договорённости не б-было! (И, как ни странно, на самом деле именно в этот день не было).
Игроки, один за другим, с неудовольствием, ворча, сбрасывали карты. Пока очередь не дошла до «учителя». Побледневший человек в круглых очках долго сидел молча, держа двумя руками, на уровне груди, магические листочки тонкого глянцевого картона.
– Братуха, проснись! Или ты перепутал карты с шахматами? Играешь? А может, и не надо рисковать. Зачем? – просипел неожиданно Джага со злорадством в голосе.
Его партнёр сбросил оцепенение, испуганно посмотрел на волосатого бузотёра, вынул бумажник, пересчитал его содержимое, затем снял с руки часы, и выложил вместе с деньгами на кон. Джага отрицательно покачал головой. Тогда его визави перекрестился, снял с шеи массивный золотой крест на толстой, итальянской вязки цепи, и присоединил его к ставке. Таксист, немного подумав, махнул рукой, что означало, что он согласен и можно открываться.
Сам же откинул камень, картинно вскинул руку с картами, а затем, не без театральности, положил все три рядом, лицом вверх. А уже потом, выждав паузу, явно наслаждаясь эффектом, снисходительно произнёс:
– Братишка, я не злой человек! Я же тебе советовал не рисковать! Но ты не послушался.
А эффект на всех присутствующих его карты, безусловно, произвели. Три короля!
Комбинация почти всегда выигрышная! Ибо перебивается только тремя тузами! Но подобное случается в игре крайне-крайне редко.
Джага протянул было руку к достаточно внушительной кучке дензнаков различного достоинства, увенчанной ручными часами и бликующим на солнце крестом, под аккомпанемент ахов, охов и эмоциональных комментариев игроков и зрителей, когда дрожащими руками, рядом с картами таксиста, выложил свои карты тот, кого мы, мальчишки, прозвали «школьным учителем» и о котором ошарашенная публика на несколько секунд как бы забыла.
Полная тишина будто опустилась… да что там опустилась – обрушилась внезапно на стадион, на весь город, а может, и на всю планету! Как каменные изваяния застыли все участники и свидетели происходящего. Думаю, если представить, что в тот момент на футбольное поле приземлился бы инопланетный космический корабль, вряд ли бы его сразу заметили!
Все, как загипнотизированные, устремили немигающие взгляды свои в одну точку, именно туда, на карты человека со следами татуировки на пальцах.
Ибо это были ТРИ ТУЗА!!! (Я даже запомнил – два чёрных: пики и крести, и один красный – червовый).
Почему-то первое, что пришло на ум, так это морская волна. В детстве мы были безрассудны и дерзки. Купаться в шторм было делом привычным. Я хорошо помню удивительное состояние моря в момент, когда вода, после мощного удара, после штурма откатывается назад. Теперь ей необходимо время, чтобы накопить силы. Совсем недолго вода кажется материей почти статичной, медлительной, но внутри этой живой, исполинской массы идут мощнейшие, скрытые от глаз процессы. Вода медленно поднимается, формируя новую волну, всё выше и выше. Вот уже виден её шипящий пенный гребень. Ещё доля секунды… и очередной водяной вал со страшной силой обрушивается на берег, круша и перемалывая всё на своём пути!
Вывел нас из ступора неожиданный протяжный паровозный гудок. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что звуки эти доносятся не со стороны железнодорожной эстакады, что было бы объяснимо, а исторгнуты ртом (или чревом) таксиста Джаги. Удивительно, как удалось ему добраться своим сиплым низким голосом до высокого регистра, почти до фальцета?
Спустя мгновенье тот же рот исторг, но уже в привычной звуковой тональности, поток отборного мата.
– Суки! Падлы! – таксист орал, как обезумевший, грозно размахивая волосатыми, мокрыми от пота руками. – Шулеры, мать вашу! Подстроили! Порежу всех, порву на части! Фраера что ли безродного нашли? Проклянёте день, когда вас мама родила!
Истерику эту остановил один из игроков, пожилой мясник. Я не знал его имени, ибо все обращались к нему по отчеству, подчеркнуто уважительно: – Ингиштерович. Он действительно пользовался большим уважением в городе: спокойный, доброжелательный, умудрённый жизненным опытом, справедливый человек.
– Поберегись, Джага! Не давай волю языку своему, – негромко, но жёстко произнес старик. – А то как бы не пришлось ответить за свои слова, если они вылетят за пределы стадиона. За это ведь с тебя могут строго спросить. Чем ты недоволен? Заменить колоду предложил я, пацан принёс новую, запечатанную, из магазина. Сдавал, как и положено было, человек, научившийся играть в карты всего пару недель назад, срезал ты сам. Так кого ты обвиняешь в шулерстве?!
Таксист обвёл всех присутствующих мутным взглядом, повернулся и молча направился к воротам, понуро опустив плечи.
– Вас же, ребята, убедительно прошу не выносить эту историю за территорию. А лучше вообще её позабыть! – эти слова Ингиштеровича были обращены, по сути, ко всем присутствующим, но, произнося их, он смотрел на нас, школьников.
Конечно, чего греха таить, первое время нелегко было удержать внутри себя эмоции, которые рвались наружу, и не проболтаться об увиденном и услышанном на стадионе. Но мы оказались на высоте, так что даже в микроскопических дозах информация наружу, в окружающий мир, так и не просочилась!
С Эдуардом в школе мы общались каждый день, но и между собой тема происшествия на стадионе не обсуждалась, ибо находилась под негласным табу.
Спустя примерно неделю он спросил вдруг о моих планах на воскресенье. Узнав, что я свободен, неожиданно пригласил на хачапури.
– Встречаемся в два часа у Горсовета. Хлеб-соль отвечаю я.
На встречу Эдо явился в компании Ованеса и Виктора, своего друга из другой школы, и, как говорится, при полном параде: в новеньких джинсах, клетчатой американской ковбойке, из нагрудного кармана которой выглядывала пачка сигарет «Кэмел», в модных солнцезащитных очках.
В те годы в городе проживало приличное количество репатриантов. Они регулярно получали посылки от родственников из-за рубежа, ну и немного приторговывали дефицитом. Правда, цены у них кусались, но это, извините, уже другая тема.
Остановив властным жестом такси, Эдуард скомандовал водителю: – «В Новый Афон!» Добравшись до места назначения, мы расположились под навесом на открытой площадке ресторана в самом центре большого пруда. День выдался нежаркий – весна ведь ещё не закончилась, со стороны моря дул лёгкий бриз, вокруг, словно парусные каравеллы, не спеша скользили по глади пруда гордые белоснежные лебеди… Идиллия, да и только!
Со стороны, без портфелей в руках, мы смотрелись вполне себе взрослыми молодыми людьми! А этот рослый викинг в фирменных очках легко сошёл бы за студента старших курсов. Поэтому, когда помимо различной снеди, он заказал две бутылки шампанского, у официантки, я думаю, не возникло и тени сомнений по поводу нашего возраста.
Пока Виктор с Ованесом ненадолго отлучились, я не смог отказать себе в удовольствии полюбопытствовать:
– Эдо, братишка! – вкрадчиво начал я свой допрос. – Ведь сегодня не день твоего рождения? И к примеру, о помолвке твоей я тоже ничего не слыхал! Может твой канадский дед оставил тебе наследство? Что именно мы отмечаем?
– Всё может случиться в жизни, – в момент мой друг подхватил заданный смешливый формат разговора, – но ни канадский, ни американский, а вернее, ни один из моих дедов – ни сухумский, ни гудаутский наследства мне не отписывал. Это дядька мой двоюродный подогрел слегка, отслюнил, так сказать, немного бабок от щедрот своих. А что отмечаем? Да так, небольшое удачно завершённое мероприятие. Если честно, я ограбил банк! Ты же видишь мою ковбойскую одежду? Помнишь бессмертную фразу бандита Калверы: «Банки в Техасе могут грабить только техасцы». Вот я и купил подходящие шмотки, смотался в Техас, и ограбил банк! Такие вот дела, Сотеро, мой лучший друг!» – закончил Эдик свой монолог очередной цитатой из популярного фильма «Великолепная семёрка».
Хорошо, подумал я, иметь такого дядь…, но непроизнесённое слово вдруг застряло в горле, мешая дышать, я машинально вскинул руки, и именно это помогло мне вдохнуть воздух. Всё длилось, наверное, пару секунд, Эдик занимался распечатыванием бутылки шипучего напитка и ничего не заметил.
Какие-то путаные мысли, былые попытки анализа тех или иных событий и ничего не значивших вроде бы слов и фраз, обрывки неясных воспоминаний покоились в недрах моей черепной коробки. Как вдруг всё это – бессистемный и бессвязный набор непонятно чего – пришло в движение.
Меня будто осенило. И как кусочки цветной смальты, выложенные умелой рукой художника, превращаются в чёткие изображения на мозаичных панно, так и передо мной отчётливо возникла картина, выложенная из мелких фрагментов моей памяти. И многое встало на свои места!
Дядька!!! Ну конечно – дядька! Как же я сразу не вспомнил?! Ведь «школьного учителя» я видел на фото в доме Эдуарда пару лет назад. Он стоял там в компании нескольких мужчин, одетый, как и почти все остальные, в блестящую, видимо шёлковую, полосатую пижаму, без очков, в кепке-«аэродром».
Увидев, что я смотрю на фотографию, Эдик тогда сказал:
– Это лагерное фото, там мой дяхоз, второй слева, его называют «Золотые ручки», ибо творит он своими руками неимоверные чудеса с игральными картами, нет ему равных в этом деле.
И сотворить очередное карточное, банальное в общем, чудо, не составило для Мастера особого труда. Тем более что – а сейчас это было ясно как дважды два – операция «Сека» готовилась заранее и была разыграна по нотам, хотя теоретически что-то могло бы пойти и не так.
Стало понятным поведение Эдуарда, изначально проявившего повышенный интерес к стадионным «турнирам», его неожиданная активность в доставке новой колоды карт (кто теперь знает, откуда он её принёс?). И, самое главное – сокрытие родственной связи со «школьным учителем».
Связав все нити своих размышлений в один узел, я предположил, что предыстория карточного развода могла выглядеть примерно так: племянник рассказывает недавно освободившемуся дяде о карточных баталиях на стадионе, и дядя предлагает план по отъёму чужих денег проверенным способом. Очень даже правдоподобно и логично!
Лишь спустя много-много лет я случайно узнал правду! И правда эта меня, взрослого, достаточно опытного человека, шокировала даже тогда, когда, казалось бы, я научился принимать жизнь в самых разных её проявлениях достаточно сдержанно.
Так вот, та самая операция «Сека» была задумана, подготовлена, просчитана во всех мелочах и нюансах моим школьным другом Эдуардом. И именно он, как опытный режиссёр, распределял роли, где главная, естественно, досталась родственнику, но не по зову крови, а исключительно из-за уникального таланта дяди!
Г. Москва
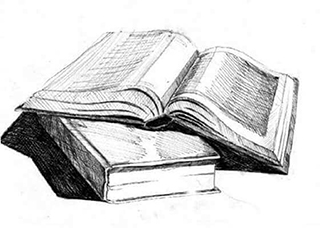
ИННА НАЧАРОВА
ВЕНГЕРСКИЙ ШТРУДЕЛЬ
Будапештские кондитерские пленяют мир своими шедеврами. Австро-Венгрия рассыпалась, а ее сладкие осколки остались здесь. Стук каблуков гулко отдавался под высокими лепными сводами кондитерской Пешта на Октобер, 6. Полы легкой пятнистой шубы из рыси развевались от широкого уверенного шага ее.
– Я мадам Дуки! – бросила она на ходу метрдотелю.
– Да, мадам. Ваш столик у окна.
Она кивнула. У столика сняла шубу, повесила на латунные крючки и села на ярко алый диван у столика. Долго изучала меню и заказала знаменитый на весь мир венгерский творожный штрудель с изюмом.
За окном суетился Будапешт. Весна покрыла первоцветами газоны улиц. Улыбки прохожих тоже были признаком весны. Она наслаждалась штруделем, когда к ней подошел метрдотель:
– Мадам, вас спрашивает господин Биро.
– Да. Проводите его.
Метрдотель удалился и вскоре подошел импозантный мужчина с искрами седины в густых черных волосах. Безупречная бородка в стиле прошлых веков. Легко сняв пальто, сел напротив нее:
– Мадам Дуки?
– Приятно познакомиться, господин Биро. Вы что-то будете заказывать?
– Воду.
Она жестом пригласила официанта.
– Без газа?
Он кивнул. Она заказала.
– Перейдем к делу, мадам?
– Вы нужны мне для того, чтобы отсудить замок Варашмает у моего бывшего мужа. Это будет не просто. По мужу моя фамилия Андресси и всем известна эта влиятельная семья политиков. Поэтому к сумме вашего гонорара я прибавляю еще пятьдесят процентов.
Мужчина иронично улыбнулся.
– И документы на замок на мое имя должны быть у меня через месяц.
– Но это невозможный срок.
– За то, чтобы слово «невозможный» превратилось в слово «разумеется» я и доплачиваю вам пятьдесят процентов.
Она достала из большой сумки известного итальянского бренда папку с документами и передала собеседнику.
– Здесь копии документов, заверенные нотариально.
– Да, мадам.
– Всего хорошего, – она дала понять ему, что разговор окончен.
– До встречи, мадам!
Она смотрела на его удаляющуюся спину в дорогом черном кашемировом пальто. Он был единственным в мире адвокатом, способным на то, что она задумала.
В огромной отельной кровати сон не шел к ней. После завтрака она отправилась на площадь принцессы Сиси еще на одну важную встречу. Молодая хорошенькая блондинка в жилете искусственного серого меха на ярко лимонном свитере гармонировал с джинсами и ботинками.
«Свежо», – отметила она про себя, а вслух, подойдя к ней, спросила:
– Мадлен?
– Да! – радостно отозвалась девушка.
– Пойдемте, присядем на скамью в сквере.
Девушка восхищенно смотрела на нее. А, вернее, на ее укладку, макияж, шубу, туфли, сумку. И она самодовольно усмехнулась от ее неприкрытых эмоций.
– Итак, вкратце ты поняла свою задачу?
Девушка кивнула ее словам.
– Задача эта, в некотором роде, приятная. Он красивый мужчина, который умеет ухаживать.
Девушка вновь кивнула и улыбнулась.
– Я удвою твой гонорар, если ты сделаешь все, как я сказала, за неделю.
Девушка с недоумением посмотрела на нее.
– Не возражай. Это возможно. А теперь вот аванс, – мадам Дуки достала из сумки пачку купюр и передала девушке. Та быстро убрала деньги в свою маленькую сумочку.
– И помни, фотоподтверждение измены это главное.
– Я поняла вас, мадам.
– До встречи, милая. Удачи!
Мадам Дуки встала со скамьи и стремительным шагом пошла в сторону трамвайной остановки. В Будапеште она полюбила ездить на трамваях. Это будоражило ее воображение: владелица огромного венгерского замка ездит на трамвае. Пресса будет писать о ее демократичности. И, кстати, во главе Венгрии никогда не стояла женщин.
Она улыбалась своим мыслям, глядя в огромное трамвайное окно на радостно суетящийся весенний Будапешт.
ВРЕМЯ ЦВЕТОВ
Она покинула этот дом два года назад. И не возвращалась в него. Этот дом стал пустым для нее. В ту горестную весну. Но вот прошла не одна весна и она приехала сюда сегодня обуреваемая весенним солнцем. Купила в цветочном магазине первые свежие розы. Поставила их в пыльную вазу с подоконника. Налила в нее воды из своей магазинной бутылочки. Осторожно присела на колченогий стул. Розы словно озарили темную и заброшенную комнату. Они смотрели на нее, словно хотели сказать: «Не робей, детка!» Она глубоко вздохнула и, улыбнувшись этим надменным красоткам в вазе, встала, сняла пальто и стала снимать пыльные выцветшие занавески с окон. Солнце ворвалось в дом и озарило все его темные углы, словно высветило морщины, так долго скрываемые темным абажуром. Она перемыла все окна, полы, столы и стулья. Вынесла из дома колченогий стул. А когда вернулась, увидела, что розы распустились и теперь словно улыбаются ей. Она подмигнула им со словами:
– Я справилась.
Она пекла блины в старой чугунной сковороде, смазывала их, не жалея масла. А потом постелила на стол чистую скатерть, водрузила на него горячий самовар, поставила тарелку с золотистыми блинами и банку густой деревенской сметаны, которую она купила по дороге у местных торговок на обочине. Смотрела в окно на еще голые деревья в саду и уплетала эти блины, запивая горячим ароматным чаем. Вспомнила тот день, когда уезжала отсюда в спешке, потому что торопилась в аэропорт. Он позвонил ей накануне и она сорвалась опрометью. Теперь она и не понимала, зачем тогда торопилась. Она прилетела к нему с одной дамской сумочкой, в которой только карточки и косметичка. Он повел ее по магазинам и накупил ей ворох модных и дорогих платьев, туфель и украшений. Он водил ее в оперу и в рестораны. Они много гуляли по городу. Она поверила, что жизнь только начинается. Роскошные букеты алых роз на толстых упругих стеблях поражали мир свой роскошью. И эта роскошь была в ее тонких белоснежных руках. Ее ноги на невероятных каблуках от модных дизайнеров покоряли брусчатку и ковровые дорожки. Она смотрела на себя в огромные зеркала везде, где они ей встречались, и не узнавала себя в образе светской красавицы. Благодаря ему, с ней здоровались царственные особы. И она уже научилась совсем правильно поедать пирожные и усвоила где и для чего лежит каждая вилка у ее обеденного прибора. Она научилась держать спину прямо и не одергивать подол. Она даже начала привыкать ко всему этому. И однажды утром, проснувшись в огромной кровати, увидела маленький белый листок на его подушке. Улыбнулась этому сложенному листочку, зная, что на нем слова его любви к ней. Сладко потянулась и начала читать. Она перечитала этот листок двадцать, а может и пятьдесят раз. А потом просто встала с кровати, быстро оделась и, взяв только свою старенькую сумочку с банковскими карточками, вышла за дверь этого роскошного гостиничного номера в центре Мадрида. У отеля взяла такси и поехала в аэропорт. Время цветов прошло. Эта фраза была из той записки на его подушке, которая сохранила его тепло и запах его парфюма. Она не помнила, да и не хотела помнить другие слова из нее. И вот она здесь, в своем старом доме. Пьет чай с блинами и смотрит на распустившиеся розы в пыльной вазе.
– Нет, время цветов не проходит. Это невозможно, – сказала она самой себе, – Если в мире существуют другие женщины, значит, в нем есть и другие мужчины. И хоть один из них должен любить блины.
Г. Уфа
